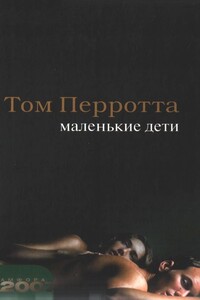Маркиз Роккавердина | страница 46
— Природа? Что это такое?
— Земля, небо, вселенная, материя. Кроме этого, нет ничего больше! Дождь идет, когда он должен идти, когда может идти. И если мы умираем с голоду, то природу это не волнует. Мы ничтожные букашки перед лицом мироздания.
— Но эту самую природу кто-то ведь создал?
— Никто. Она сама себя создала, и сама…
— Кто вас научил всему этому вздору?
— Кто? Книги, которых вы не читаете. Вздор? Святейшие истины. Священники, которые боятся, что кончится их раздолье, если эти истины узнает народ…
— Все-то вы на них зуб точите!
— Это враги блага человеческого.
Они помолчали, глядя на толпу, что остановилась там, внизу, возле церкви святого Исидоро, опустилась на колени и повторяла молитву вслед за доном Сильвио, который держал черный крест, освещаемый дюжиной больших фонарей. Отчетливо доносились слова песнопения: «И сто тысяч раз вознесется тебе хвала и благодарность…»
И в этот момент колокол монастыря святого Антонио пробил час ночи.
Маркиз поднялся.
При свете луны была видна толпа молящихся, проходящая по улице вслед за черным крестом и дрожащими огоньками фонарей на шестах.
11
Рокко Кришоне, Агриппина Сольмо, суд присяжных, даже ночная исповедь — все эти люди и события стали теперь для маркиза Роккавердина такими далекими, что он и сам удивлялся этому странному феномену своей памяти.
Порой, правда очень редко, кто-нибудь из них неожиданно вставал перед ним почти как наяву, заставляя содрогнуться.
То Рокко, то Сольмо виделись ему такими, какими запомнились много лет назад в какой-нибудь обычной обстановке — в поле или у него дома, и он не мог понять, почему эти воспоминания выхватываются из темной глубины его памяти такими ясными и отчетливыми, хотя не было никакой явной причины, которая могла бы вызвать их.
Вот Рокко возится с каким-то деревенским инструментом; вот он ужинает за каменным столом во дворе домика в Марджителло: салат из помидоров, глиняный кувшин с одной стороны, большая краюха черного хлеба с другой — нарезает себе толстые ломти, обмакивает их в соус. Вот Сольмо, в одной сорочке, с распущенными волосами, расчесывает их и, стянув на затылке тесьмой, легким движением головы откидывает густую черную копну; вот она, умытая и прибранная, поливает на маленькой террасе горшки с базиликом и гвоздикой, гордясь этими пышными, ухоженными цветами, ласково прикасаясь к ним, с наслаждением вдыхая, впитывая в себя их аромат.
И никогда не виделись они ему в трудные минуты, ни разу не замечал он немого укора на их лицах, не читал упрека в глазах, не видел, чтобы они разговаривали с ним или слушали его, — нет, они всегда были заняты каким-нибудь своим делом, не подозревая, что за ними наблюдают.