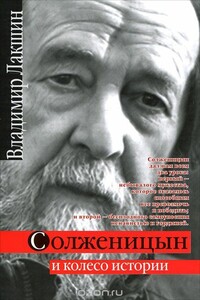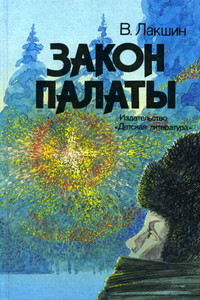Мир Михаила Булгакова | страница 30
А главное — Булгаков улавливал непредсказуемые, и в этом смысле «мистические», черты исторического процесса. Рациональное знание тяготело к тому, чтобы разложить по полочкам, что и как случилось, где причина, а где следствие происходящих событий, да еще с неизбежной добавкой оптимизма, бросавшего розовый свет на ближайшее и более отдаленное будущее.
Булгаков выступил лояльным, но скептическим оппонентом по отношению к этому оптимизму. Он отмечал алогизм, стихийность процессов истории и социального быта, подобно тому как Достоевский дивился когда-то алогизму и непредсказуемости движений человеческой натуры.
Критик Леопольд Авербах, черты которого проступят в Берлиозе из «Мастера и Маргариты», утверждал, что фантастические повести Булгакова — «злая сатира на советскую страну, откровенное издевательство над ней, прямая враждебность…» [24]. Хорошо еще, что он не читал повести «Собачье сердце», где булгаковский профессор протестует против слова «контрреволюция»: «Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается». Булгаков не считал себя противником новой власти и, более того, верил, что помогает ей. Потому что чем может лучше помочь писатель своей стране, как не откровенной правдой? Сатирик — тот же лекарь, а Булгаков знал, что хорош тот врач, который не только поставит диагноз, определит область боли, но постарается и прогнозировать течение болезни.
В 30-е годы прозу Булгакова не печатали. Не издавали и его сатирические повести. Но, сохраняя нить связи со сценой, театрами, Булгаков пробует транспонировать свой интерес к сатирической фантастике в драматическую форму. Так одна за другой появляются пьесы: «Адам и Ева» (1931), «Блаженство» (1934), «Иван Васильевич» (1934—1936).
В пьесе «Адам и Ева» ощутима ироническая проекция на библейское предание о первом человеке и его жене: в свете будущей апокалиптической войны — не стать бы первым людям последними. А с другой стороны — инженер Адам, «воинствующий и организующий», может быть, это и есть первый человек новой социалистической эры?
Адам и его жена воплощают в пьесе Булгакова не только первородное мужское и женское начало, но две различные стихии жизни. Адам относится к другим людям как к «человеческому материалу» и уповает на возможность «организовать человечество». Ева же верит в естество, природу, склонна к милосердию и осуждает жестокость. «Я вот сижу,— говорит она в пьесе, обращаясь к спорящим мужчинам,— и начинаю понимать, что лес, и пение птиц, и радуга — это реально, а вы с вашими исступленными криками — нереально». Бросая Адама и уходя к Ефросимову, Ева объясняет это, между прочим, так: «А я не хочу никакого человеческого материала, я хочу просто людей». Свободный выбор женщины, да еще с именем праматери всех женщин, это выбор самой природы, жизни