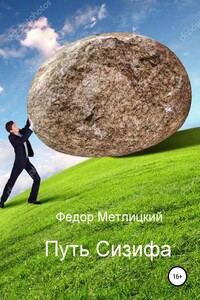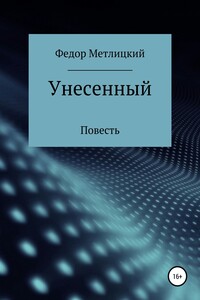Остров гуннов | страница 82
– Это правда, – улыбнулся ей Либерал.
Его недолюбливали в народе, он ратовал за полную свободу в экономике, что приводит к размножению акул-олигархов и ростовщиков и разбеганию мальков торговли по углам острова. Впрочем, и мы не нравились: раскачивали лодку, да к тому же были укором, неизвестно в чем.
Либерал мне слегка противен. Он в своем средневековье жил как кот в масле, хотя и с постоянной угрозой убийства плебсом. Все его желания, даже утонченной «красы», тут же исполнялись.
Моя же семья после самой страшной последней войны тысячелетия жила в бедности. Вспомнил, как в день рождения мать торжественно приготовила рисовую запеканку. Это считалось роскошью, а я плакал от непонятной обиды.
С тех пор обнаруживал в себе неприятные черты аскетизма. Никогда не думал, во что одет и чем питаюсь, об этом заботилась жена. Это не христианский аскетизм святого Франциска, а ограниченные потребности от постоянной занятости ума. Аскетизм другой, не гуннский, а романтического искателя истины. Откуда было взяться утонченному вкусу? Такие как я, обычно притворяются утонченными, или самоуверенно судят о прекрасном. И смутно чувствовал враждебность к некоей ограниченности потребителей красоты, к роскоши богатых. Не из зависти, просто во мне не было такой потребности.
Захотелось выругаться.
– Значит, сидите в своей «красе»? Таким образом хотите уйти от того, что унижает и оскорбляет?
– А почему нет? – Либерал повернулся ко мне понимающе. – Я о том, чтобы не жить в грязи. Человек должен жить в достойном окружении. Рядом с красивыми женщинами.
Он снова улыбнулся Аспазии, и продолжал:
– А вы разве не стремитесь сделать землю красивой?
– Это не одно и то же, – отрезал я.
– Нужно и то, и другое. Отдаваться служению другим, значит потерять себя.
– И я о том же, – сказал я. – Отдаваться служению себе – тоже потерять себя. Разве это конечное удовольствие – жить «в красе»? Это и есть отчуждение, увековечивающее наше безысходное существование.
Это не совсем правда. Вспомнил стихи поэтессы, замученной во времена сталинских процессов: «Ну, что я без народа моего? Я без него не значу ничего, И все мои успехи – чушь, безделки, И, как песчинки, призрачны и мелки».
У меня же долго в душе не было никакого народа, он для меня был абстракцией. Не понимал, как это – любить народ. Бывали только чудесные вознесения в некую абстрактную безграничную близость с миром, возможно, моей пропавшей иллюзией-родиной, – далекие от равнодушной среды. Я не лучше и не хуже других. Почему не посмеяться над собой?