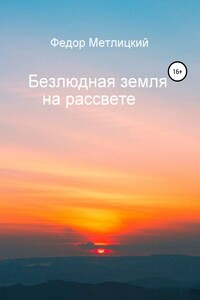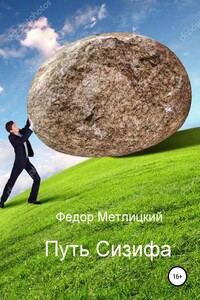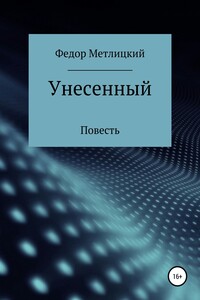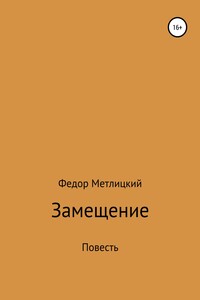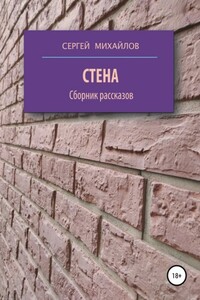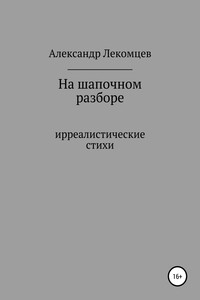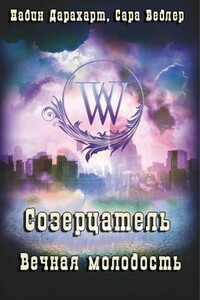Остров гуннов | страница 121
Для начала мы одели школяров в фирменную одежду Академии – бордовую куртку без рукавов, с поясом, куда крепилась шпага, белые лосины и туфли с загнутыми носами. На голове красовалась бордовая шапочка с пером и эмблемой утеса, нарисованной летящей кистью Ильдики. Они сразу стали гордиться своей формой.
Занятия в Академии происходили в отстроенном сарае-храме, где было светло от больших цветных окон, или в музее, изображавшем старинное городище, обнесенное острыми кольями, или на воздухе в рощах парка.
Здесь не было четкой границы между профессóре и учениками, которые тоже могли получить дипломы бакалавров и даже магистров.
Вначале споры были сумбурными. Ученики любили диспут «О чем угодно» (disputatio de quodlibet), выбирали темы: «Зачем застилать кровать, если можно просто набросить покрывало?», «Как получается, что упражнения (поединки и турниры) укрепляют физическую силу?», «Являются ли пришельцы ангелами или демонами?»
На последнее я отвечал:
– Посмотрите на меня – похож на демона?
– Няма. Но имаш волшебную коробочку для моментального разговора с всички сторонами света!
Я сразу брал задушевный тон в беседах с лохматыми слухачами, как бы в едином ощущении с ними.
– Вы, ведь, чего-то хотите? – спрашивал я их.
– Жить. Да буде сытыми. Да глядеть позоры. Любить момзелей.
– Хорошо, получили. А дальше? Мало быть сытыми.
– А защо дальше?
Действительно, зачем? Они еще целиком погружены в солнечный ток жизни, в вечно манящий океан, где поражает ржавый пароход, засевший на подземной скале, и на берегу волшебные дары – ребра остатков кораблей, и чудесные цветные камни гальки и ракушки.
Нужно ли возбуждать в чистых юношеских головах иные желания, дать ощутить новизну неведомых миров? Они и так в них есть. Только не новизна неведомых миров других людей, среди которых они готовы шпагой прокладывать свой путь.
Как зажечь интерес к познанию подлинного себя, найти в себе любопытство к «чужим», если этого никто не хочет, и даже недоумевает, зачем? Это все равно, что переплюнуть историю.
Гунн еще исторически не умел, или ленился вникать в смысл слипшихся пластов предания и веры. Они вросли в мозг, вот почему гунны так самоуверенны, находясь в состоянии знания истины. Им смешны отклонения от их знания, куда шагает история гуннов, или сострадание абстрактным «чужим». Зачем им это?
Я успел заметить, что у гуннов только еще пробивалась индивидуальная личность, правда, эгоистическая, которой способствовали торговля, купечество и ростовщичество. Вера в жестокого Господа Мира не позволяла выйти за пределы ритуала. Слишком страшно было ворошить его, идти поперек всеохватной веры. Ужас стать отщепенцем-богохульником, караемым костром или темницей. Доминирование теологии и языка преданий, эпистолярно-почтовый характер средств информации, слабое развитие связи «живых теней», – закрывали горизонт будущего. Они не знают того «информационного общества», в которое я не так давно был погружен, коллективных форм производства знания. Правда, я подозревал, в конце концов мое общество тоже возвращается к тому же состоянию «смерти автора», то есть личности.