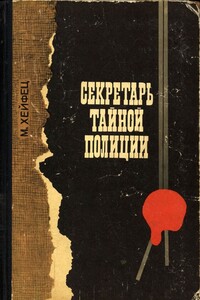Суд над Иисусом | страница 34
Нередко вместо термина «агада» богословы используют иное слово — «мидраш» (от глагола «дараш» — «комментировать»). Однако это не одно и то же: мидраш, конечно, может быть «агадой» (сказанием), но может ею и не быть… Сохранилось несколько огромных сборников «мидрашей», толкующих не только заповеди, но вообще всю жизнь человеческую. Многие мидраши сочинены уже после окончания Талмуда, этим они тоже отличаются от классической «Агады». В чем, однако, состоит разница между агадой, мидрашами и привычным для нас, светских людей XX–XXI веков, народным творчеством, фольклором?
Как фольклор любых иных народов, агада и мидраши передавались из уст в уста (до тех пор, пока Талмудический запрет на запись «Устной Торы» не был снят раввинами). Подобно фольклору, они существовали веками, передаваясь из поколения в поколение. Подобно фольклору, агада и мидраши предназначались всему народу, и не было синагоги, где бы их не читали и не цитировали. И все-таки между агадой и фольколором есть принципиальная разница.
Фольклор сочиняется народом, вернее, безвестными творцами, и уже только потом шлифуется теми, кто хранит и передает его из уст в уста. Агаду и мидраши сочиняли совсем не простые люди, а профессионалы — лучшие из лучших знатоков Торы, из мудрецов, из проповедников. И простые люди не смели такие тексты править… Правда, мудрецы действительно были связаны с народом (это и сделало агаду и мидраши внешне похожими на еврейский фольклор). Когда вы познакомитесь с текстом «Историей о Йешу», то убедитесь, насколько эта «агада» есть подлинно народный по стилю и духу текст. И все-таки это, повторяю, не фольклор, а скорее — особого рода литература. Можно выразиться так: народная литература.
«История о повешенном, или история о Йешу» составлена из древних агадических сюжетов Талмуда, в нее добавили фрагменты из мидрашей и, возможно (по мнению переводчика) какие-то народные сказания и интонации. По мнению одного из первых исследователей этого текста, д-ра Шмуэля Крауса, «Историю» сочинили впервые в 5 веке нашей эры на арамейском языке (10). Позже, очевидно в XI–XII вв., когда арамейский язык вышел из народного обихода, сказание перевели на иврит и заодно добавили к нему новые куски.
Легенда об Иешуа пользовалась большой популярностью у еврейских читателей: по информации переводчика, до нас дошло несколько десятков вариантов ее текста (11).
В отличие от Евангелий, мне, конечно, придется пересказать для читателей сюжетные линии «Истории» подробно.