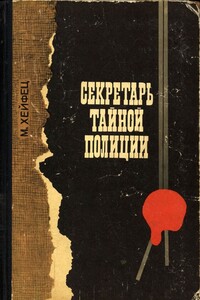Суд над Иисусом | страница 29
Как видим, версия «библеистов» о спасении общины от убийц Домициана с помощью некоторой фальсификации в Евангелиях каких-то фактов насчет роли Пилата и Синедриона формально выглядит вполне легитимной.
Иное дело — была ли версия «библеистов» о защите общины с помощью «пропилатовских» сюжетов Евагелий верной? Мне больше верится в иную версию, что изложена выше. То есть что для евангелистов, евреев по ментальной сути, обращавшихся в своих текстах тоже к евреям, римляне как объект вины вовсе не существовали. Римляне воспринимались как… скажем, некие силы природы. И гнев, презрение, негодование за казнь Учителя сосредоточилась только на виновных людях. На тех, кто, по мнению сочинителей первых еврейских сказаний о Иешуа, мог бы спасти Учителя — но предал его, отдав в руки дикаря.
Талмуд и «мидраши»
В пределах своей темы я не вижу смысла обсуждать, как и почему иудаизм и христианство разошлись в теологических вопросах. Еще в эпоху создания Евангелий отношения общин складывались напряженно, но тогда предполагался возможным компромисс и диалог. Напомню хотя бы послание апостола Павла «К римлянам»: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит и усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы (видимо, праотцы? — М. Х.), от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословен во веки веков, амен» (9, 1–5).
Но шли десятилетия, и накалялись взаимная ненависть и презрение. Евреи никак не могли принять постепенно затвердевавшие центральные догматы христианской теологической мысли — Триединство и Боговоплощение. Сегодня, например, протестантские и даже некоторые католические теологи признают, что в Священных книгах христиан нет однозначных указаний на эти постулаты веры, но ясно же: отсутствие прямых ссылок не может в рамках специфического религиозного сознания иметь хоть какой-то серьезный смысл. «Вопрос не станет яснее, — писал выдающийся британский писатель-католик Честертон, — если даже и скажут, что Христос не называл себя Богом. Ни одному пророку или философу, равному ему по мудрости, мы не могли бы это приписать. Допустим, что Церковь ошиблась, неправильно поняла Его. Но никто, кроме Церкви, так не ошибается. Магометане не приняли Мухаммеда за Аллаха, евреи не приняли Моисея за Бога. Даже если все христианство зиждется на ошибке, ошибка эта неповторима, как Воплощение» (7).