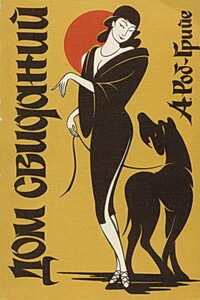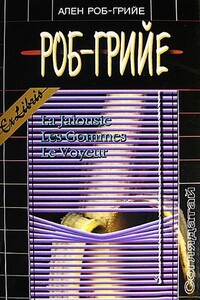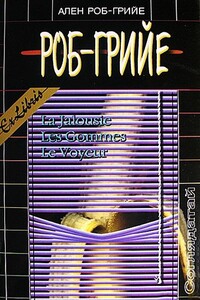Повторение | страница 49
– Так у вас в детской не было окна?
– Конечно, было!., оно выходило на задний двор, в сад, из него были видны большие деревья и… козы. Потом его зачем-то замуровали, наверное, как только началась осада Берлина. Ио говорит, что мой сводный брат написал эту фреску, когда шло решающее сражение, он тогда торчал здесь, его в последний раз отпустили в увольнение… (11)
Слева на заднем плане виднеются руины величественных зданий, навевающих мысли о Древней Греции, ряды обломанных на разных уровнях колонн, открытый портик, осколки рухнувших архитравов и капителей. По грудам развалин карабкается заблудшая черная козочка, словно обозревая эту историческую сцену. Если художник хотел изобразить (по памяти или со слов товарища) какой-то определенный эпизод второй мировой войны, то это может быть советское наступление в Македонии в 1944 году. Над холмами длинными параллельными полосами стелятся темные облака. Огромное, но уже бесполезное орудие подбитого танка наведено на небеса. Сосновая роща, видимо, скрывает от русских двух наших беглецов, которым я в моем нынешнем бедственном положении, конечно, сопереживаю, тем более что лицом и телосложением этот мужчина явно похож на меня.
Примечание 11: непредсказуемая Геге на сей раз ничего не выдумывает и без искажений излагает некоторые достоверные сведения, полученные от матери. И все же, одно маленькое уточнение: на берега Шпрее я прибыл отнюдь не потому, что меня отпустили в увольнение, да и вряд ли это было возможно весной сорок пятого, а, совсем напротив, для выполнения одного крайне рискованного специального задания в качестве «связного», которое с началом русско-польского наступления 22 апреля потеряло всякий смысл. К сожалению или к счастью – кто его знает? Кроме того, отметим, – хотя этим здесь никого не удивишь, – что девочку, похоже, нисколько не смущают некоторые неувязки в ее объяснениях: если к началу решающего штурма я находился в Берлине, то я никак не мог погибнуть за несколько месяцев до этого в одном из арьергардных боев на Украине, в Белоруссии или в Польше, а ведь совсем недавно она, кажется, утверждала именно это.
Что касается древнегреческих руин, замеченных нашим рассказчиком на отдаленных холмах, то они, – если память мне не изменяет, – были зеркальным отражением других руин, изображенных на большой аллегорической картине, которая висела на той же стене в детской, когда я был еще ребенком. Впрочем, это могло быть и аллюзией на творчество Ловиса Коринта или бессознательной данью уважения к этому художнику, чьи работы когда-то повлияли на мою манеру рисования, почти так же сильно, как произведения Каспара Давида Фридриха, который всю свою жизнь, на острове Рюген, силился выразить то, что Давид д'Анже называет «трагедией пейзажа». Однако стиль, в котором выполнена интересующая нас фреска, на мой взгляд, не имеет отношения ни к одному, ни к другому, если не считать драматические небеса в духе Фридриха, поскольку, вернувшись с фронта, я стремился главным образом точно передать свои личные впечатления от войны.