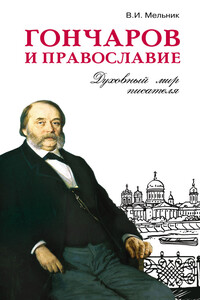Гончаров | страница 36
В 1831 году Гончаров успешно преодолевает вступительные барьеры и поступает в Московский университет — «на свой кошт». Вступительные экзамены он сдал легко: «Я не успел оглянуться, как уже был отэкзаменован… я довольно легко решил какую-то задачу из алгебры и получил одобрительный кивок от адъюнкт-профессора Коцаурова. Француз сделал мне два-три вопроса… Профессор истории задал общеизвестные вопросы о крупных событиях. Я отбыл свой экзамен в какие-нибудь полчаса».[84] Но к этому получасу Гончарову пришлось долго готовиться. Да ещё специально к поступлению пришлось выучить — шутка сказать! — греческий язык! Теперь его ждало словесное отделение университета! Только этого ему и хотелось. Изучать древнюю и новую литературу, русскую и мировую историю, слушать лекции лучших в России профессоров — это совсем не то, что зубрёжка в Коммерческом училище. А главное — всё это, быть может, приоткроет ему дверь — страшно подумать! — в литературу… Теперь, на словесном отделении, дорога к писательству открывалась прямая.
В то время Московский университет был очагом свободомыслия. А. И. Герцен, учившийся здесь с одновременно с Гончаровым, с 1829 по 1833 год, писал в «Былом и думах», что «университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.
Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.
Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая наружно, закипела, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана… Университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев, в его залах они очищалась от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее». Московский университет собирал вокруг себя разнородную, но самую талантливую русскую молодежь. Для своего времени это было училище свободомыслия — конечно, в самом широком, а не политическом только смысле слова. Герцен дает все-таки весьма специфическую картину университетской жизни. Он прежде всего отмечает вольный и западный по сути дух университетского обучения. Вместе с ним в одно время в университете учились будущий поэт Н. П. Огарев и будущий великий критик В. Г. Белинский. Гончаров вспоминал: «Между прочими, тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он недолго пробыл в университете». Запомнились Гончарову и поэт Николай Станкевич,