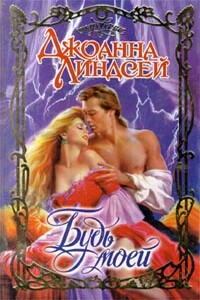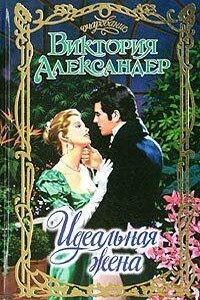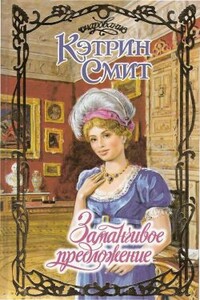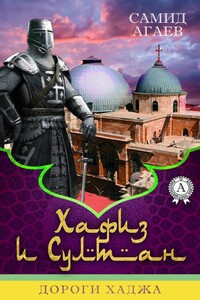Будь моим этой ночью | страница 40
— Благодарю вас, моя дорогая. А, вот и ваш розарий! Какая красота!
Отпустив ее руку, Молино направился к розовым кустам и с выражением неподдельной радости на лице принялся рассматривать ряды бутонов самых разных оттенков. Прю наблюдала за ним с улыбкой, однако после предостережений священника на сердце у нее было неспокойно.
А еще более беспокоило ее сознание того, что если в погребе их и впрямь поджидала какая-то неведомая опасность, она предпочла бы видеть с собой именно Шапеля.
— Ну, как она?
Отец Молино, который как раз в этот момент смахивал пушинки с вечернего пиджака Шапеля, остановился. Пожилому священнику почему-то доставляло удовольствие брать на себя роль его камердинера — или отца.
— Она показалась мне вполне здоровой, мой друг. Настроение у нее бодрое, и если не считать небольшой усталости, никаких иных признаков недуга я не заметил.
Оправив рукава, Шапель кивнул:
— Хорошо.
Однако после того как Прю упала возле самой его двери, не оставалось сомнений, что с ней что-то было неладно. Люди обычно не корчатся от боли без причины. Какая-нибудь болезнь или травма могли объяснить ее стремление найти Грааль — и ради самой Прю он надеялся, что ей удастся обнаружить в старинном погребе именно то, что она искала.
— Что, если они отыщут Святой Грааль?
Взгляд Молино поймал его собственный, отражавшийся в зеркале. Улыбка на лице священника была преисполнена спокойствия и терпения, как у родителя, наблюдающего за любознательным, но заблуждающимся ребенком.
— Грааля там нет.
— Откуда ты знаешь?
Он пожал плечами:
— Просто знаю, и все. Что бы там они ни нашли в погребе, это будет не Святой Грааль. Я лишь надеюсь, что это будет и не Чаша Крови тоже.
Сама мысль, что Прю может испить из чаши проклятия, думая, что пьет из источника жизни, была нестерпимой.
— Ей ни в коем случае нельзя позволять пить из нее, пока мы окончательно в этом не убедимся.
Молино в последний раз прошелся щеткой по пиджаку.
— Это ясно и без слов. Нам придется положиться на твое зрение и память, поскольку мои уже далеко не те, что были когда-то. Ты ведь узнаешь ее, да?
Шапель уставился на свое отражение. Его внешность уже не приводила его в расстройство, как прежде. Лицо в зеркале было тем же самым, которое он видел в течение столетий. Его лицо.
— Да, я ее узнаю, — заявил он твердо. — Как будто я могу ее забыть!
Каждая трещинка, каждый изъян, каждый дюйм потускневшего серебра чаши навеки запечатлелись в сознании. Эта чаша стала его повелительницей, его проклятием, его бичом — сосуд, из которого он испил по собственной воле.