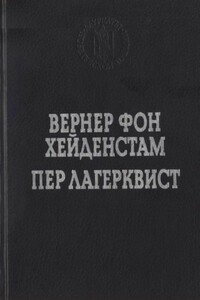Варавва | страница 33
Он отвалил камень и уложил ее рядом с иссохшим младенчиком. Уложил разбитое тело так, будто старался, чтобы ей было поудобней, и напоследок взглянул на лицо и на шрам над верхней губой; теперь это было неважно. Потом он снова придвинул камень, сел и оглядел пустыню. Пустыня, он думал, похожа на царство мертвых, а она уже там, он отнес ее туда. И где лежит человек после смерти — вовсе неважно, но она лежит рядом со своим иссохшим младенчиком, не где-то еще. Он сделал все для нее, что мог, подумал Варавва и косо усмехнулся, почесывая рыжую бороду.
«Любите друг друга»…
Когда он вернулся к своим, никто не узнавал в нем прежнего Варавву, так он переменился. Те двое, которые тогда были в Иерусалиме, рассказали, правда, что он стал странный какой-то, да и немудрено: его столько держали в застенке и чуть не распяли. Наверно, скоро пройдет. Но нет, не прошло, а давно уж пора бы. Непонятно, в чем тут причина, но он стал на себя непохож.
В общем-то, он всегда был чудной, никогда не поймешь, что он думает, что затевает, но сейчас дело другое, сейчас он стал им совсем как чужой и на них смотрел тоже, кажется, как на чужих, будто впервые видит. Объясняют ли они ему свои планы — он их не слушает и сам никогда слова не вставит. Будто ему все равно. Он, конечно, участвовал в набегах на караванные пути в долине Иордана, но как-то без интереса, и толку от него было немного. Если встречалась опасность, он от нее не то чтобы вовсе увертывался, но близко к тому. Может, тоже от безразличия, кто его знает. Ему будто ничего не хотелось. Один только раз, когда грабили обоз с десятиной для первосвященника, собранной с жителей Иерихона, он вдруг осатанел от ярости, изрубил обоих из храмовой стражи, которые охраняли этот обоз. Зачем — непонятно, те и не думали сопротивляться, сразу сдались, как увидели их перевес. А потом он еще надругался над трупами, и все решили, что это уж слишком. Они и сами ненавидели стражников, всю эту первосвященникову свору, но мертвые — достояние храма, а храм — достояние бога. Им стало чуть ли не страшно, что он так обошелся с мертвыми.
А вообще никогда не выказывал он охоты выполнить что-нибудь, как каждому из них подобало, будто бы их дела вовсе не касались его. Даже когда они напали на римских солдат на Иордане, у переправы, он и то не больно старался, — а ведь это они едва не распяли его, и остальные разъярились тогда не на шутку, всем до единого перерезали глотки и тела побросали в реку. Никто, конечно, не сомневался, что он ненавидит притеснителей народа господня ничуть не меньше других, но, если бы все повели себя с такой же прохладцей, им бы в ту ночь, конечно, несдобровать.