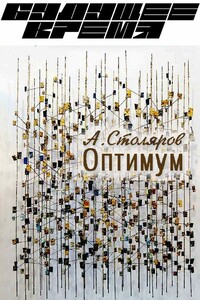Магистр | страница 5
2. Два Джованни
Борджианский Рим живо интересовался возглавляемой дожем островной республикой. С начала XVI века Папская область и Республика Венеция исполняли сколь странные, столь и нервные танцы, в которых мужскую партию вел Рим, сгибавший республику к полу в этом ренессансном танго. Александр и Чезаре (не постеснялся папа: взяв себе имя величайшего македонца, сына назвал в честь величайшего римлянина) не зря молчали о событиях, происшедших в Венеции, а не на полях сражений, и известных нам не из исторических источников, а из первых рук. Родриго любил своих детей. Что бы ни подразумевалось под этой любовью, так страшно проявившей себя в треугольнике Александр – Чезаре – Лукреция, он любил их и требовал от них деяний во славу тиары. Так что оставим зловещего Родриго играть в политические игры в Вечном городе и обратим взгляд на его знаменитого сына.
Обуреваемый множественными страстями, а пуще всего страстью к жизни, Чезаре рано прославился выходками, которые можно было бы назвать молодецкими, когда бы не было в них столько презрения. Не к зрителям проводившихся им посреди Рима коррид, к примеру (на них папский сын глядел в глаза красноглазому быку, держа в левой руке шпагу, а в узком правом рукаве припрятав кинжал-мизерикордию), и, безусловно, не к быку (бык присутствовал на гербе Борджа). Даже не подмятый под бархатные туфли первосвященника Рим, шептавший у него за спиной: «Чужак! Выскочка! Испанец!», презирал Чезаре, а как будто вообще все на свете. Конкистадорское отношение к жизни папский сын сочетал с полным безразличием к поиску в ней смысла. Так что если Александр боролся за Рим, за власть, богатство, женские души (и плоть) по причине понимаемого таким образом жизнелюбия, то Чезаре, получивший все возможные дары судьбы на блюде уже при рождении, охватывал жизнь, как огонь сухой хворост, – так же неумолимо, обжигающе и равнодушно и столь же разрушительно. Среди множественных свидетельств об экспедициях Чезаре по городам и весям Италии во время Итальянских войн[5] (где инженером ему служил сам Леонардо, набросавший лицо героя этой главы на полях очередного трактата) не сохранился отчет о его поездке в Венецию. Восполним это упущение.
А пока заметим, что в описываемом любовном построении существовала и третья сторона – флорентийская. «Ах, Флоренция… – скажет читатель и будет прав. – Ах, – скажет он, – Кватроченто!» – и будет прав снова.