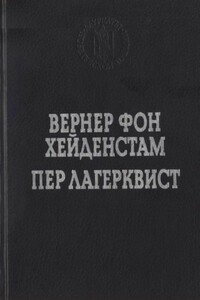Пилигрим в море | страница 40
Легко понять, что скрывалось за этим ее жестом, я понял это слишком хорошо и был страшно взволнован, так взволнован, что сам почти удивился этому. Я быстро протянул руку, чтобы рвануть к себе тот самый медальон с портретом ее возлюбленного, о котором она столько говорила, о нем, не похожем ни на кого другого, чтобы посмотреть, как он выглядит, кто он такой. Однако же, почти обезумев от испуга, она помешала мне, ее рука крепко обхватила медальон. Удивительно, как сильна оказалась эта маленькая, узенькая рука, когда дело коснулось того, чтобы сохранить ее тайну; казалось, я не смог бы разжать ее, если бы я даже на самом деле всерьез попытался бы это сделать. Но от прикосновений к ней и всей этой борьбы возле ее маленькой теплой груди моя страсть пробудилась вновь. И когда она оказала страшное сопротивление и изо всех сил попыталась оттолкнуть меня, она еще сильнее возросла, и я гораздо больше увлекся этим, нежели тем, чтобы схватить пресловутый медальон. Она в самом деле оказывала настоящее сопротивление. Но в то время как она боролась со мной, не давая приблизиться к ней, пробудилось и ее желание, и в разгар борьбы она внезапно уступила, позволив мне приблизиться к ней. Она тесно прижала меня к себе, хоть я и был не тот, хоть я и не был тот ее настоящий возлюбленный, а совершенно чужой. И мы соединились в приступе безумного сладострастия, из-за этого еще более яростно и жарко, именно из-за этого сладострастия, которое еще больше и совсем по-иному, нежели ночью, удовлетворило нас. И у нее на груди я все время чувствовал тесно прижатый к моей собственной волосатой груди медальон с портретом ее настоящего возлюбленного, истинного, того, кто был не таким, как все мы остальные. Того, с высоким, благородным лбом. Того, о ком ей должно было свидетельствовать пред Богом.
Потом, зарывшись лицом в подушку, она, дрожа всем телом, разразилась судорожными рыданиями.
Так началась наша любовь. Теперь остается только рассказать, как все было дальше.
Я приходил к ней все снова и снова, прокрадываясь по узкой галерее и наверх по столь же узкой и тускло освещенной лестнице. Маленькими воротами в переулке, насколько я понимал, никто, кроме меня, никогда не пользовался, никто, кроме меня. Фасад дворца - потому что это и в самом деле был старинный дворец - выходил на другую сторону, к площади, и там был большой, настоящий вход, которым я остерегался пользоваться.
Мой путь был окольным, его никто не знал или не думал, что он существует; мрачная галерея, где пахло каменной кладкой и сыростью, где было так скользко, что можно было поскользнуться на больших оголенных камнях, если не пойдешь достаточно осторожно. Приходилось пробираться вперед, нащупывая рукой стены, с которых капала вода. Если это и не был потайной ход, то теперь он стал таким благодаря мне. И пользовался я им только в темноте, по вечерам, и потом, когда снова возвращался домой и в извилистом переулке был начеку, чтобы никто не увидел меня в церковном облачении в столь нежданный час. Я надеялся, что даже если кто-либо меня и увидит, то подумает, что я возвращаюсь от лежащего на смертном одре больного и принял последнюю робкую исповедь несчастного.