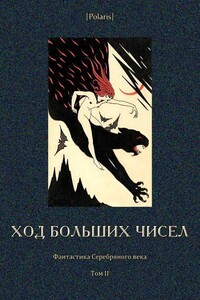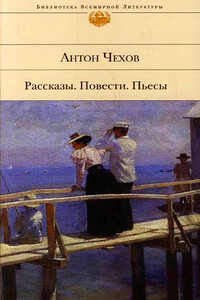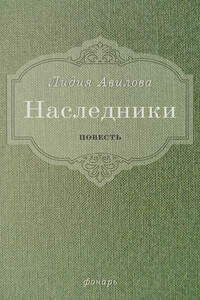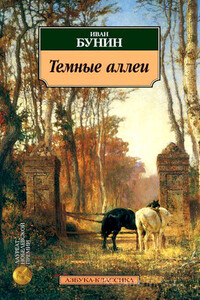Шестеро | страница 33
— Ваше преосвященство! — вырвалось из груди о. Антония; он хотел было протянуть руки, но в этот момент у него закружилась голова и силы его оставили. Благочинный и келейник едва успели поддержать его.
— Ишь, какой бедненький, — сочувственно сказал архиерей и покачал головой. — Надо его ободрить. Насчет жены-то его… Что ж, может, бог и продлит ее дни, а не то… Ну, что ж… На все его воля! — прибавил он, обратившись к благочинному и келейнику, и ушел к себе в кабинет очень расстроенный. «Ведь вот жизнь-то какова и какие дает коллизии, — думал архиерей, с волнением прохаживаясь по кабинету и нервно шевеля четками, — а мы то, власть над этою серою массой имущие, сидим в своих покоях и ничего этого не знаем. О жизни судим по докладам, да по прошениям, да по представлениям консистории. Я его промучить захотел за то, что в тон попадать не умеет, это был мой каприз, а у него вон какое грандиозное горе и какая тягостная задача». И в эту минуту архиерею, потрясенному только что происшедшею сценой и настроенному на добрые чувства, захотелось воочию увидеть, как живет подчиненное ему духовенство, что чувствует и какое горе переживает каждый из этих смиренных дьяконов, дьячков и пономарей, обремененных семействами и всю жизнь мечтающих о повышении.
О. Антония привели в чувство, и он медленно побрел с архиерейского двора. Он но в силах был теперь ни радоваться, ни скорбеть. Его несильный ум никак не мог сколько-нибудь привести в систему все те разнообразные ощущения, которые пришлось испытать ему в течение последних суток. Страх перед подачей пакета секретарю, светлая надежда после принятия этого пакета, ласковый прием у благочинного, разочарование в консистории, отчаяние при виде умирающей Натоньки, борьба между любовью к ней и необходимостью уехать ради детей, сцена у архиерея и это счастье, которое должно совершиться завтра, — все это следовало одно за другим, нисколько одно из другого не вытекая, спутывало его мысли и чувства. Страшное горе — потерю жены — он должен был переживать вместе с величайшим счастьем — достижением священнического сана. В самом деле это было какое-то почти сверхъестественное совмещение двух противоположных чувств. Нет большего горя для лица, носящего духовный сан, как потеря жены, да еще любимой, какою была Натонька для о. Антония. Ведь это — вечное одиночество, вечный холод холостой жизни среди живущего полною жизнью мира, среди житейских соблазнов и требований строгой морали, сопряженных с званием. С другой стороны, священничество — это высший идеал, к какому может стремиться причетник, и, следовательно, высшее счастье. И вот и то, и другое разом упало на голову о. Антония. Одно только он ясно чувствовал — что он в этот момент преступник перед Натонькой. Она умирает, и так еще самоотверженно, думая лишь о будущем его и детей, она, быть может, теперь переживает страшные мучения, а он здесь делает карьеру, готовится к повышению. И как ни старался о. Антоний, никак не мог он примирить в душе своей эти разнообразные ощущения. Поэтому во всю остальную часть этого дня, весь вечер, который он провел в церкви, безуспешно стараясь слушать вечерню, так как нужно было готовиться к завтрашнему событию, всю ночь, совершенно бессонную, утро следующего дня и даже во время обедни, когда совершалось его рукоположение, он находился в каком-то тупом состоянии безразличия, бесчувственности. Сердце у него нестерпимо болело, лицо было бледно, и глаза, глубоко впавшие в орбиты, горели тусклым огнем. Даже архиерей обратил внимание на его недобрую внешность и, стоя в алтаре, сказал ему тихо: «Ободрись, Антоний, не думай о земном! Помни, какой сан принимаешь!»