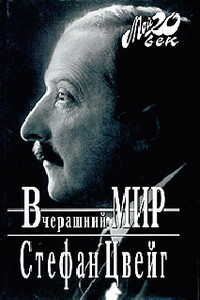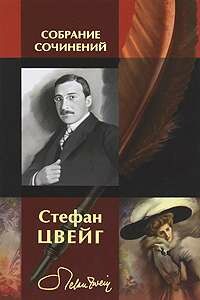Сочинения | страница 70
Это сразило меня: не успела она пошевельнуться, прийти в себя, как я бросилась вон из зала; у меня хватило сил добежать до скамьи, той самой скамьи, на которую рухнул вчера этот безумец. И так же, как он, я упала на жесткое сидение без сил, без воли, без мыслей.
С тех пор прошло двадцать пять лет, и все же, когда я вспоминаю о том, как я стояла там, униженная, втоптанная в грязь его оскорблением, перед толпой чужих людей, кровь стынет у меня в жилах. И я снова думаю о том, до какой степени слабо, жалко и ничтожно то, что мы так выспренне именуем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если все это не может разрушить страждущую плоть, измученное тело, если можно пережить такие часы и еще дышать, вместо того чтобы умереть, рухнуть, как дерево, пораженное молнией. Ведь боль, пронзившая меня до мозга костей, могла лишь на краткий миг повергнуть меня на скамью, где я замерла не дыша, ничего не сознавая, кроме предчувствия вожделенной смерти. Но я уже сказала – всякая боль труслива, она отступает перед могучим зовом жизни, чья власть над нашей плотью сильнее, чем над духом – все обольщения смерти.
Мне самой было непонятно, как я могла встать после такого потрясения; но все же я встала, правда не зная, что же мне теперь делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы уже на вокзале, и тотчас же вспыхнула мысль: прочь, прочь, скорее прочь отсюда, из этого проклятого места! Не глядя по сторонам, я побежала к вокзалу, спросила, когда отходит ближайший поезд в Париж; в десять часов, сказал мне швейцар, и я тотчас же сдала свои вещи в багаж. Десять часов – значит, пройдет ровно двадцать четыре часа после той роковой встречи, двадцать четыре часа, столь насыщенных бурными противоречивыми чувствами, что мой внутренний мир был навеки разрушен. Но вначале я ничего не сознавала, кроме одного слова, которое неумолчно стучало в висках, впивалось в мозг, словно вбиваемый клин: прочь! Прочь! Прочь из этого города, прочь от самой себя, домой, к моим близким, к моей прежней, моей жизни! Утром я приехала в Париж, там – с одного вокзала на другой – прямо в Булонь, из Булони – в Дувр, из Дувра – в Лондон, из Лондона – к моему сыну, прямым путем, без остановок, не рассуждая, не думая; сорок восемь часов без сна, без слов, без еды, сорок восемь часов, в течение которых колеса выстукивали все то же слово: прочь! прочь! прочь!
Когда я, наконец, нежданно-негаданно вошла в загородный дом моего сына, все испугались: должно быть, во всем моем облике, в моем взгляде было что-то выдававшее меня. Сын хотел обнять и поцеловать меня. Я отшатнулась: мысль, что он прикоснется к губам, которые я считала оскверненными, была мне невыносима. Я уклонилась от расспросов, велела только приготовить ванну, потому что испытывала потребность вместе с дорожной пылью смыть со своего тела последние воспоминания о страсти этого одержимого, недостойного человека. Потом я поднялась в свою комнату и проспала двенадцать – четырнадцать часов глухим, каменным сном, каким никогда в жизни не спала, таким сном, после которого я поняла, что значит мертвой лежать в гробу. Родные ухаживали за мною, как за больной, но их ласка причиняла мне боль; я стыдилась их почтительности, их уважения, и мне приходилось постоянно сдерживаться, чтобы не выкрикнуть им в лицо, как я их всех предала, забыла, чуть не покинула ради безумной, бешеной страсти.