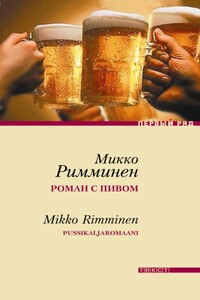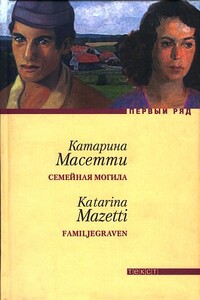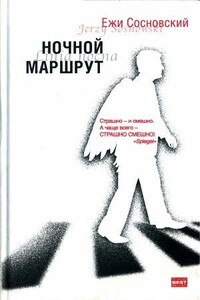История картины | страница 65
Я не могла больше медлить, мне хотелось все объяснить, устроить, соотнести. Я жаждала поддаться зову естества. Привольно растечься, хлынуть, куда придется, по прихоти своих потаенных склонов и русл, распустить те жесткие металлические скрепы, что стягивали меня с головы до пят. И если поток моих настроений, перелившись через край, захлестнет берега, затопит окрестные луга, превращая травянистые пастбища в грязное болото и размывая фундаменты домов, я ничего тут поделать не могу, нет моих сил об этом заботиться, а уж придержать свое половодье вообще не в моей власти.
Дождь лил еще долго. Ночью я слышала, как струи стекают по водостокам… казалось, льды наконец тают, а вода тихо смывает их обломки.
На следующее утро потаенное воодушевление разбудило меня очень рано. Оно танцевало во всех моих членах, мне хотелось двигаться, бежать куда-то. Я огляделась. Город купался в огромной, упоительно свежей заре. Я ощущала ее кожей, впивала всем телом. Сам собой взгляд обратился к картине. Она сияла в дальнем конце комнаты розовым ореолом. И сразу все во мне озарилось, окрасившись тем же цветом.
Это был час розового, одно из тех утр, когда я пробуждалась в тонком, хрупком расположении духа, балансируя на режущей грани обстоятельств, покачиваясь в неустойчивом равновесии, и вот я осталась там, трепеща, как птица, а под ногами у меня был уже не лед, а тонкая проминающаяся пленка слез с похрустывающими бороздками. Новое настроение заполонило душу, набрало высоту. Перепрыгивая через разрежения смысла, перелетая через его сгущения, оно проносилось от одной видимости вещи к другой, легонько задевая их по касательной, его заносило на виражах, но в повороты оно все же вписывалось, а порой привольно изливалось росистой капелью на тихие пустые прогалины между домами.
Я взлетела с первым розовым лучом рассвета, а внизу, подо мной, как по волшебству, розовое сияние будило спящий город.
Освобожденный взгляд больше не бился в силках городской паутины, не катился, как биллиардный шар, по желобам прорезающих город улиц, а восходил ввысь, как легчайший пар; внизу же, сколько хватал глаз, раскинулась необъятная ширь. Утреннее солнце играло на равнинах, вспыхивая острыми, мгновенными, как молния, лучами; отточенные всполохи, скрещиваясь, словно клинки, и без следа уходили в землю. Все до головокружения сверкало, будто зеркально отполированная поверхность. Ослепленное сознание кружило на одном месте, сперва медленно, с оглядкой, потом все быстрее и быстрее, земля уходила из-под ног, благо ничто не мешало стремительному бегу к какой-то иной, неумолимо приближавшейся тверди. Внизу, очень далеко, все еще разворачивалось замысловатое плетение улиц. Я без устали смотрела в окно, смотрела из всех окон, но камень стен отступал, просвечивал, как театральная декорация, поднимался, уподобясь поочередно уходящим вверх полотнищам. Там, где взгляд еще вчера еле тащился в тяжелых башмаках, рассчитывая степени риска и прослеживая этапы пути, стесняемый своей стеганой, набитой мыслями экипировкой и громоздкими защитными очками, теперь он бросался наудачу отовсюду, с самых крутых откосов. Дорожные ориентиры улетучивались, как сновидения, уже было не различить ни пункта отправления, ни места прибытия, оставалось лишь чувство, что ты — неизменно в центре. Справа, слева, куда ни посмотришь, каждое мгновение глазу открывались новые виды, взгляд, охватив их все в единой круговой пробежке, мог снова стремительно ринуться вперед. И так до бесконечности — то головокружительные виражи, то рывки вдаль! На земной тверди, дававшей опору и вместе с тем отталкивавшей, гоня все вперед и вперед, душа, эта влага тела, подобная капле масла, оставляла похрустывающий след, будто на плите, добела раскаленной лучами из витражной розетки солнца.