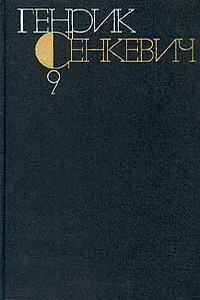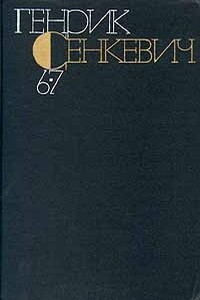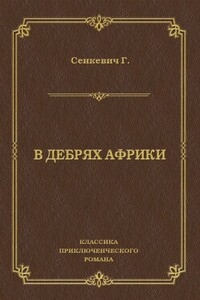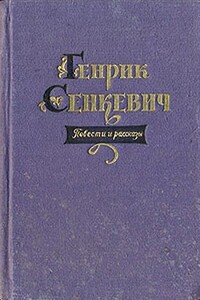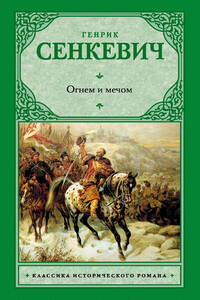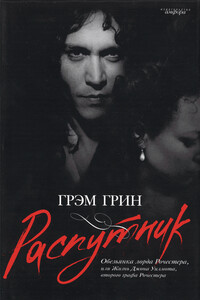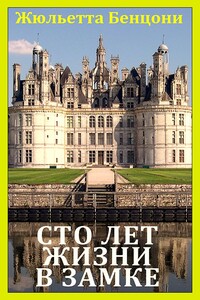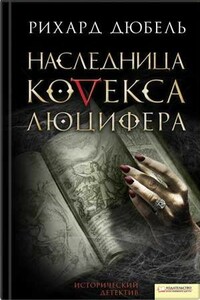Повести и рассказы | страница 20
Социально-бытовые романы Сенкевича менее увлекательны, нежели исторические. Выше других оценивался критикой роман «Без догмата». К этому, надо признать, были все основания. Сенкевич в этом произведении коснулся серьезного, отраженного рядом европейских литератур явления: того кризиса сознания, одним из симптомов которого в XIX веке считалось появление «умных ненужностей», молодых людей, пораженных болезнями воли. (В этой связи неоднократно говорилось, например, о родстве между «бездогматовцем» Сенкевича и типом «лишнего человека» в русской литературе.) М. Горький писал, что Сенкевич изобразил крах индивидуализма как мировоззрения, а герой его, отмеченный печатью вырождения, стоит в одном ряду с созданиями предшественников (Мюссе) и современников писателя (Бурже, Пшибышевский). «Мы видим,— писал Горький в статье «Разрушение личности»,— что «исповедь сына века» бесчисленно и однообразно повторяется в целом ряде книг и каждый новый характер этого ряда становится все беднее духовной красотой и мыслью, все более растрепан, оборван, жалок. Грелу Бурже — дерзок, в его подлости есть логика, но он именно «ученик»; герой Мюссе мыслил шире, красивее, энергичнее, чем Грелу. Человек «без догмата» у Сенкевича еще слабее силами, еще одностороннее Грелу, но как выигрывает Леон Плошовский, будучи сопоставлен с Фальком Пшибышевского, этой небольшой библиотекой модных, наскоро и невнимательно прочитанных книг!»[2]
К началу 90-х годов польский реалистический роман имел на своем счету замечательные достижения. Элиза Ожешко создала самое широкое из своих полотен — роман «Над Неманом». Болеслав Прус опубликовал «Куклу» — одно из вершинных достижений польского реализма. Автор «Без догмата», обратившись к современности, нашел свой круг проблем, свою повествовательную манеру.
Детальностью и завершенностью психологического анализа, мастерским воспроизведением движений души в целом богатстве оттенков роман существенно обогатил польскую литературу. Сенкевич сам говорил, что хочет воссоздать «кусочек души сложной и больной, но подлинной», изобразить человеческую натуру «глубже, чем она обычно берется, особенно в польских романах». Дневник героя должен был (и Сенкевич считал, что этого отчасти добился) «производить впечатление не литературного произведения, но чего-то совершенно реального, что действительно имело место». Такая форма повествования соответствовала характеру героя, зараженного скептицизмом, склонного к самоанализу, способного судить и осудить себя, способного определить (но не вылечить) болезни своей души. Плошовский находит в себе «человека усталого, который лишен жизненной силы». Собственную склонность к рефлексии он определяет как вещь губительную: «Анализ — это нечто схожее с ощипыванием цветка. Он чаще всего портит красоту жизни, а вместе с нею и счастье, то единственное, что имеет смысл».