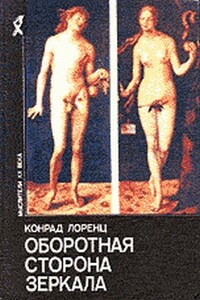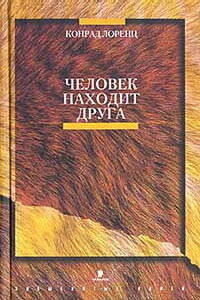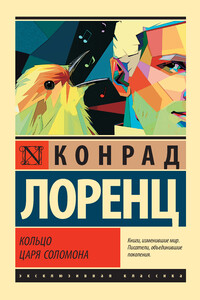, который ведёт исследования по теоретической физике. Но установить, сколько и чего ещё существует в абсолютной реальности помимо тех фактов и отношений, которые нашли свое отражение в нашем образе мира, мы можем не больше, чем землеройка может знать о способах сократить маршрут передвижения при своем сумбурном петляющем обследовании местности. Что же касается абсолютной значимости наших «необходимостей мышления», то мы, соответственно, должны тут держаться поскромнее: мы можем быть убеждены только в том, что в некоторых деталях они соответствуют абсолютно-сущему в большей степени, нежели таковые у землеройки. Сверх того, мы осознаем тот факт, что, как и животные, мы столь же слепы по отношению к не менее многочисленным вещам; что мы, как и они, лишены органов восприятия бесконечно многого из того, что есть в реальности. Формы восприятия и категории – это, скорее, не сам разум, а инструменты, которые он использует. Они представляют собой врождённые структуры, которые, с одной стороны, помогают выживать, а с другой – способствуют окостенению и застою. Великая идея свободы Канта – а именно та, что мыслящее существо ответственно за всю Вселенную, – страдает тем недостатком, что привязана к жёстким механическим законам чистого разума. Априорные и предустановленные способы мышления как таковые ни в коем случае не являются чем-то специфически человеческим. Для человека, однако, специфично сознательное стремление не застревать на одном месте, не катиться инерционно-механически по рельсам, но сохранять юношескую открытость миру и добиваться более тесного контакта с действительностью в постоянном взаимодействии с ней.
Будучи биологами, мы достаточно скромно оцениваем положение человека в совокупной системе природы; нас больше интересует, чего он сможет достичь в будущем на путях познания. Провозглашать абсолютность человека; утверждать, будто любые воображаемые разумные существа, и даже ангелы, должны быть ограничены законами мышления Homo Sapiens – всё это представляется нам непостижимым высокомерием. Вместо утраченной иллюзии об уникальном месте человека в универсуме, мы выдвигаем убеждение, что в своей открытости навстречу миру он принципиально способен к восходящему росту науки, к развитию априорных формул своего мышления, к пониманию и созиданию фундаментально новых вещей, никогда прежде не существовавших. В той мере, в какой он останется верен стремлению не позволять каждой новой мысли быть погребенной под надгробной плитой законов, кристаллизующихся вокруг неё, подобно потокам лавы у Ницше, развитие ещё долго не будет встречать принципиальных препятствий. Таково наше понимание свободы. Величие и – по крайней мере, на нашей планете – действительная уникальность человеческого мозга состоит в том, что несмотря на свою гигантскую дифференцированность и структурированность этот орган обладает многообразной изменчивостью, лавообразной способностью сопротивляться функциональным ограничениям, налагаемым его же собственной структурой, – способностью, достигающей уровня, на котором его пластичность оказывается даже большей, чем у протоплазмы, которая вовсе лишена жёстких структур.