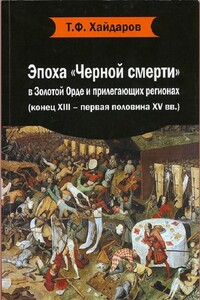Славянские легенды о первых князьях. Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян | страница 102
Традиция, повествующая о начальных этапах формирования Польского королевства, отличается вариативностью. Существование разных версий генезиса государства и появления династии князей в Польше может служить первым признаком их устного, мифоэпического происхождения. Соотношение вариантов, зафиксированных в хронистике XII-XIV вв.[112], требует специального текстологического анализа. Отчасти такая работа проведена Я. Банашкевичем. Он определил, что в Средневековье в Польше бытовали как минимум две традиции описания происхождения государства — краковская (восходившая к племенному преданию висленских славян) и гнезненская (традиция полян)[113]. Первая отразилась в Хронике Винцентия Кадлубка и Великой хронике XIII в., вторая — в Хронике Галла.
Вторым признаком, надежно связывающим текст Хроники Галла с устной традицией, является наличие славянских лексем в первых разделах. По собственному признанию Галла, в Польше он «изгнанник и пришелец» (что следует и из его прозвища)[114]. Считается, что польский язык для Галла был чужим. Следовательно, включение в текст этимологий и объяснений славянских слов явно требовало наличия туземцев-консультантов.
В начальной части своего труда Галл разъясняет происхождение названия столицы Гнезно: «Erat namque in civitate Gneznensi, que nidus interpretatur sclauonice, dux nominee Popel...» («Был в городе Гнезно, что по-славянски означает «гнездо», князь по имени Попель»), Отмечу, что даже при переводе на латынь здесь сохраняется типичный «сказочный зачин» повествования: «был в городе X князь Y»[115]. Кроме того, хронист приводит славянское название вида посуды — «cebri» (см. Главу I, 3). В обоих случаях Галл дает исключительно точное объяснение значения лексемы.
В Хронике можно выявить случаи обращения к дружинным сказаниям и «показаниям» воинов-очевидцев: описание войска Мешко I[116], эпизод с ударом мечом в Золотые ворота Киева и история сестры Ярослава Мудрого[117], рассказ об оскорблении толстого князя Болеслава русскими дружинниками[118], легенда об отказе польских дружинников от панцирей[119], сообщение о ранении стольника Войслава[120], прозвище Болеслава II «сын волка»[121], легенда о золотой руке комита Желислава[122]. В тексте также выделяются фольклорно-юридические формулы и пословицы[123]. Дружинная традиция в Хронике представлена наиболее подробно, поскольку она достаточно легко адаптировалась к жанровым задачам труда Галла, выполненного в форме так называемых средневековых «деяний» (Gesta).