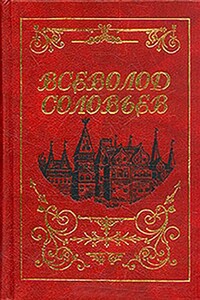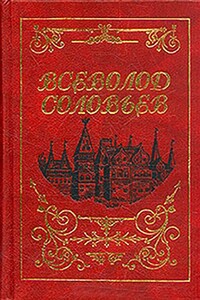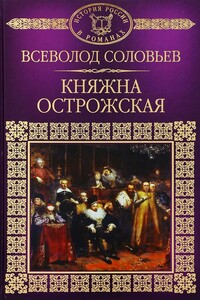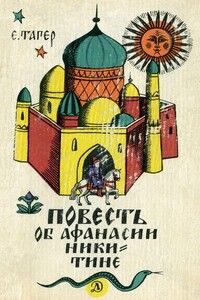Сергей Горбатов | страница 28
Он толковал ему:
«Молодой человек должен готовиться к жизни, к той жизни, которую он будет проходить самостоятельно, на своих ногах. Но пока он еще находится в зависимости от других, то благоразумие заставляет его идти на некоторые уступки, впрочем, чисто внешние. Вез этих уступок никогда не было бы спокойной семейной жизни, а одна только борьба старых, укоренившихся ошибок с новыми, более правильными взглядами. И, во всяком случае, для такой борьбы нужно укрепиться, чтобы не быть побежденным. Вся жизнь впереди, впереди и плодотворная борьба, а пока нужно только хорошенько работать над собою…»
Рено скрепя сердце вдавался в такие рассуждения. Он чувствовал, что портит ими прямую натуру Сергея, приучает его к скрытности, к слишком большому благоразумию. Но делать было нечего. И скоро всякие смущения забывались, являлось наслаждение успехами воспитанника. Рено слишком долго чувствовал себя одиноким во всем мире, теперь же у него оказалось второе «я», только в прекрасной оболочке свежести и молодости. Отрывая Сергея от всего прежнего, он этим самым связывал его неразрывно с собою, и кончилось тем, что они стали неразлучны, понимали только друг друга. Они вместе, во время уединенных прогулок по окрестностям Горбатовского, мечтали о правах свободного человечества, развивали идеи деизма, возмущались грубостью окружавших их нравов. Хотя горбатовский дом и представлял почти исключение для того времени, но все же и в нем случались резкие сцены. Высечет управитель провинившегося лакея, отшлепает старая экономка заленившуюся горничную — и Сергей уже чувствует себя возмущенным до глубины души и спешит к Рено. А тот возмущается с ним вместе и начинает толковать о правах человечества, изливает потоки адвокатского красноречия на тему о рабстве. А между тем во все эти пять лет воспитателю не пришло на мысль и самому вглядеться в жизнь русского раба и заинтересовать ею воспитанника. Тысячи душ крестьян, эта живая собственность Сергея Горбатова, как бы совсем не существовали для Рено. Деревня, избы — это было такое, что совсем не входило в его миросозерцание.
При редких и случайных столкновениях с русским крестьянином и его бытом, Рено как-то смешно смущался, начинал чувствовать брезгливость и спешил скорее прочь. Он уважал бедность, он сам даже одно время испытывал ее, он понимал нищету, но тут было нечто совсем другое, не нищета, не бедность. Эти странные фигуры, говорившие на непонятном для него языке, представлялись ему совсем особенными существами.