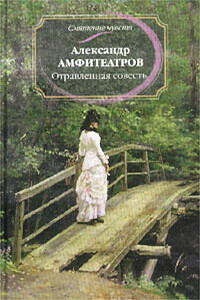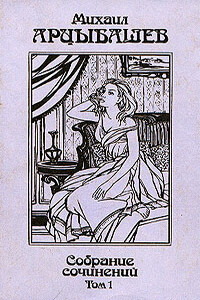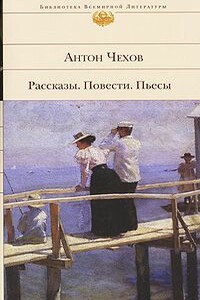Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков | страница 51
Шла картежная игра. На карту ставилось все. — Платье, пайки хлеба, ворованные вещи... Здесь же шла и широкая торговля и товарообмен.
В советских тюрьмах нет казенной одежды, а уголовник даже в тюрьме, любит быть хорошо, — «гамазно» одетым. И на ряду с полуголыми часто видишь какие-то необыкновенные галифэ и френчи. Значить «фарт подвалил», счастье пришло — выиграл. Все это удерживается не долго и постоянно переходит из рук в руки.
Мы сжились, и я поневоле втянулся в их жизнь. Я начал «ходить по музыке» т. е. понимать их язык. Сперва они с большой неохотой объясняли мне отдельные слова, но потом, поверив мне, поняв, что я не «лягавый», и не «стукач» («Лягавый» — доносчик. «Лягнуть» — донести. «Стукач» — болтун. «Стучать» — болтать), давали мне объяснения. Может быть пригодится, думал я, и действительно, впоследствии язык этот мне помог.
Но и тут же в тюрьме со мной произошел забавный случай, когда, благодаря моему знанию языка, целая камера «шпаны» долго принимала меня за «блатного» самого высокого полета.
Я находился в то время уже в общей камере. Мы стояли как-то компанией во дворе и разговаривали. В это время я почувствовал в своем заднем карман штанов чью-то руку. Я ударил по ней и на чисто воровском жаргоне сказал что-то вроде:
«Брось... Ширма и шкары мои. Их нету»... («Брось... Карманы и штаны мои... Денег нет»... )
И потом повернувшись прибавил: «Хряй на псул... Ты что меня за фраера кнацаешь!?» («Иди... Ты что меня за чужого принимаешь?!.»)
В ответ на это я увидел большие глаза и затем удивленный, нерешительный голос:
«Э, брат... Видно и ты горе видал».
Была весна. Обыкновенно в эту пору особенно трудно сидеть в тюрьме. Но тут я этого не замечал. Как-то захватывала жизнь, никто из окружающих не говорил о ее тягости. Не было нытья и люди жили.
Помню вечера... В маленькое окошечко под потолком лился свет заходящего солнца... Под окнами, на вышке, ходил часовой... Все усаживались на кроватях и начиналось пенье.
Есть песни национальные крестьянские, фабричные солдатские и все они хороши только тогда, когда они исполняются теми, кому они принадлежат, кто с ними сросся, на них воспитан, а главное кто в них выливает свою душу. Так же и тюремные песни хороши и очень хороши, когда он исполняются людьми, которым они принадлежат.
И в этих словах чувствуется, что действительно, у этого босяка, уголовника, вора есть чему поучиться. Он понимает, знает и чувствует цену свободы.