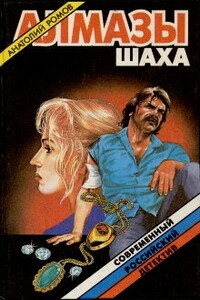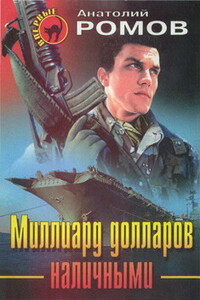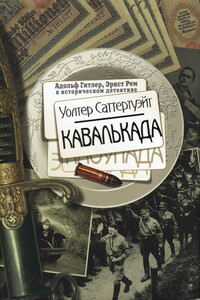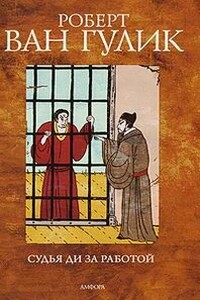Ротмистр авиации | страница 24
— Господа, по секрету: «В холодном Париже»!
Рассыпалась трель аккомпанемента, снова захлопали, закричали. Песня была известной, ее слова гуляли по Петербургу, сообщая о «холодном Париже, который скучает по жаркой Москве». Аккомпанировало лишь фортепиано; Губарев отметил, что в голосе певицы чувствуется настроение, да и вообще мадемуазель Ставрова поет неплохо, если не считать специально наигранного жеманства.
Он следил за японцами и сейчас был почти уверен: тот, кого загораживает шампанское, — «Ахметшин». Песня закончилась, аплодисментов, криков и свистов не жалели. Впрочем, японцы, как он и предполагал, не шевельнулись — самурайская сдержанность. Стоп. Вот это уже интересно. Пока Ставрова раскланивалась, Танака жестом подозвал официанта, невысокого, тучного, с прилизанным пробором и нитевидными усикам»; тот поймал чуть заметный знак в сторону эстрады, взял из рук атташе конверт — и исчез за кулисами. Похоже, конверт предназначен для Полины. Пусть даже вет, но случай стоит запомнить.
Три раза выйдя на вызовы, Ставрова исчезла; сразу же грянула развеселая мелодия, в зал полетели конфетти, выбежал кордебалет. Губарев закрыл щель: здесь, за шторой, ему больше делать нечего, теперь главное — переговорить с тучным официантом. Он выглянул в простенок: толстяк, помахивая салфеткой, стоит в ожидании вызова. Нужно подойти к нему, не привлекая внимания официантов и метрдотеля. Когда Губарев кашлянул, официант повернулся; лоснящееся жиром лицо ничего не выразило. Фраза нашлась легко:
— Слушай, друг, заработать не хочешь?
Толстяк вздохнул.
— Деревня. Друг я ему. Кому друг, а кому Никанор Евсеич, — он махнул салфеткой по коленям. — Какие с тебя, вахлак, заработки? А?
— Простите, Никанор Евсеич, я хотел спросить — можа, клиентов мне подкинете?
Толстяк некоторое время соображал.
— Клиентов?
— Да. Я б с кажного, уж не обидел бы, а? Никанор Евсеич? С кажного, уж не обидел бы.
— Новенький, что ли?
— Да нет, Никанор Евсеич, месяц уж как в Питере. Мне б вона этих, англичанок, во-она фасонистые сидят.
— Во-она… Дурень, это не мой стол.
— А ваш какой?
— Соседний. Японцы, видишь?
Губарев изобразил высшую степень досады.
— Ой нет, боюся я их… Жалобень какая. Да и потом с японцев, что с них взять?
Лицо толстяка дернулось, он сплюнул.
— Болван неотесанный. Знаешь, кто это?
— Кто-о? — он округлил глаза. Толстяк, передразнивая, скривился.
— Тьфу, говорить не хочется. Этот, видишь, лицом к нам? Сам господин Танака, морской атташе. Понял? Небось, слова такого не слышал — «атташе»?