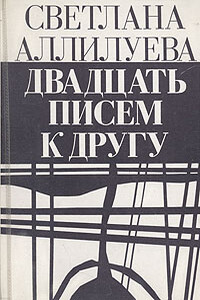Дочь Сталина. Последнее интервью | страница 71
Привезли установку для искусственного дыхания из какого-то НИИ и с ней молодых специалистов, - кроме них, должно быть, никто бы не сумел ею воспользоваться.
Громоздкий агрегат так и простоял без дела, а молодые врачи ошалело озирались вокруг, совершенно подавленные происходящим. Я вдруг сообразила, что вот эту молодую женщину-врача я знаю, - где я ее видела?. Мы кивнули друг другу, но не разговаривали. Все старались молчать, как в храме, никто не говорил о посторонних вещах. Здесь, в зале, совершалось что-то значительное, почти великое, - это чувствовали все - и вели себя подобающим образом. Только один человек вел себя почти неприлично - это был Берия. Он был возбужден до крайности, лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были - честолюбие, жестокость, хитрость, власть, власть. Он так старался, в этот ответственный момент, как бы не перехитрить и как бы не недохитрить! И это было написано на его лбу. Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо больного, - отец иногда открывал глаза, но, по-видимому, это было без сознания, или в затуманенном сознании. Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза; он желал и тут быть «самым верным, самым преданным» - каковым он изо всех сил старался казаться отцу и в чем, к сожалению, слишком долго преуспевал. В последние минуты, когда все уже кончалось, Берия вдруг заметил меня и распорядился: «Уведите Светлану!» На него посмотрели те, кто стоял вокруг, но никто и не подумал пошевелиться. А когда все было кончено, он первым выскочил в коридор и в тишине зала, где стояли все молча вокруг одра, был слышен его громкий голос, не скрывавший торжества: «Хрусталев! Машину!» Это был великолепный современный тип лукавого царедворца, воплощение восточного коварства, лести, лицемерия, опутавшего даже отца - которого вообще-то трудно было обмануть.
Многое из того, что творила эта гидра, пало теперь пятном на имя отца, во многом они повинны вместе, а то, что во многом Лаврентий сумел хитро провести отца и посмеивался при этом в кулак, - для меня несомненно. И это понимали все «наверху». Сейчас все его гадкое нутро перло из него наружу, ему трудно было сдерживаться. Не я одна - многие понимали, что это так. Но его дико боялись и знали, что в тот момент, когда умирает отец, ни у кого в России не было в руках большей власти и силы, чем у этого ужасного человека. Отец был без сознания, как констатировали врачи. Инсульт был очень сильный; речь была потеряна, правая половина тела парализована. Несколько раз он открывал глаза - взгляд был затуманен, кто знает, узнавал ли он кого-нибудь. Тогда все кидались к нему, стараясь уловить слово или хотя бы желание в глазах. Я сидела возле, держала его за руку, он смотрел на меня, - вряд ли он видел. Я поцеловала его и поцеловала руку - больше мне уже ничего не оставалось. Как странно, в эти дни болезни, в те часы, когда передо мною лежало уже лишь тело, а душа отлетела от него, в последние дни прощания в Колонном зале, - я любила отца сильнее и нежнее, чем за всю свою жизнь. Он был очень далек от меня, от нас, детей, от всех своих ближних. На стенах комнат у него на даче в последние годы появились огромные, увеличенные фото детей - мальчик на лыжах, мальчик у цветущей вишни, - а пятерых из своих восьми внуков он так и не удосужился ни разу повидать. И все-таки его любили - и любят сейчас, эти внуки, не видавшие его никогда. А в те дни, когда он успокоился, наконец, на своем одре и лицо стало красивым и спокойным, я чувствовала, как сердце мое разрывается от печали и от любви. Такого сильного наплыва чувств, столь противоречивых и столь сильных, я не испытывала ни раньше, ни после. Когда в Колонном зале я стояла почти все дни (я буквально стояла, потому что, сколько меня ни заставляли сесть и ни подсовывали мне стул, я не могла сидеть, я могла только стоять при том, что происходило), окаменевшая, без слов, я понимала, что наступило некое освобождение. Я еще не знала и не осознавала - какое, в чем оно выразится, но я понимала, что это - освобождение для всех и для меня тоже от какого-то гнета, давившего все души, сердца и умы единой, общей глыбой.