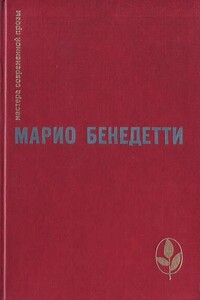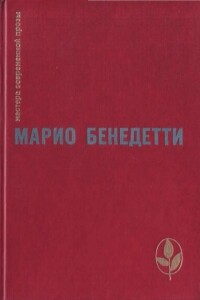Ближний берег | страница 2
Стюардесса подходит ко мне с традиционной кока-колой, а я весь — в угрызениях совести. Никто уж не спасет меня от сознания, что той проклятой фразой я навсегда отравил жизнь отцу. Он и раньше не ладил с мамой. Вернее, никогда у них не ладилось. И никогда я не видывал таких разных и так разочарованных друг в друге людей. Старикан — неизменно впечатлительный, пылкий, правда, по-моему, чересчур робкий, к тому же интеллигент, каким может быть почти инженер (что не так уж много, зато интеллигентности у него побольше, чем у инженера). Вечно он был завзятым читателем-книголюбом, любит живопись и музыку и, к счастью, не полагает, как некоторые его почти коллеги, что жизнь — это логарифм. А вот мама, наоборот, человек довольно упрямый (если обойтись без субъективности, что вообще-то недопустимо для любящего сына, пришлось бы сказать — она упряма как мул), чувства ее засушены (ее волнуют только собственные беды и никогда чужие), она гордится своим энциклопедическим невежеством, не переваривает ни книг, ни вообще искусства, зато знает домашнюю работу, в душе добрая (только без глубокого бурения до души не доберешься), склонна чаще к упрекам, чем к терпимости, — словом, не сахар. Думаю, подлинному освобождению (как говорят еще — второй независимости) старикана помешали две причины: а) мои изыскания в подстолье, погубившие в зародыше многообещающую связь, и б) неизлечимый католицизм моего родителя, исключавший возможность развода, а он стал бы для него спасением и освобождением. По моим смутным воспоминаниям, Кларита была веселой, очаровательной, настолько симпатичной, что даже меня покорила. Не раз я подумывал в свои нынешние семнадцать лет (между прочим, достойно отмеченные в тюремной камере), как было бы приятно встретить — не Клариту, разумеется, ведь теперь она, если еще жива, должна быть старушенцией лет тридцати восьми, — а такую же вострушку, какой была Кларита, когда прижимала под столом свои точеные ножки к брюкам старикана.
II
Произошедшее в эти последние месяцы, вероятно, содействовало сближению моих родителей. Короче: я оказался за решеткой. Потому они и выглядели в аэропорту изрядно взволнованными — наконец-то им удалось отправить меня в Буэнос-Айрес. Понимаю, для них спокойнее. Для меня тоже. Вторую тюрьму я и в кино не хотел бы видеть. Отныне и впредь кинофильмы для меня делятся на две категории: в одних есть тюрьмы, в других — нет. Предпочитаю смотреть только вторые. До смерти осточертели мне тюрьмы, пусть всего за тридцать четыре дня. Исчерпал, как говорится, тему. А вот вам (кому это «вам»?) нет надобности строить иллюзии, принимая меня за молодого революционера, борца за правое дело, за эдакую выдающуюся личность; я обязан пояснить, что попался не из-за политики, а по глупости. Горько признаться, но это чистая правда: попался по глупости. Каюсь, соваться в политику — не мое дело. В моем классе были ребята, которые не совались в политику, потому что им нравилось учиться, а политика отнимает много времени, это точно. Что же касается меня, то учебой я не увлекался и не увлекаюсь. Кем угодно меня можно назвать, только не зубрилой. Так что в классе я представлял собой единственный экземпляр вымирающего вида — тех, которым не по нутру ни учеба, ни политика. И все же я не был пропащим: всегда переходил в следующий класс, значит, строго необходимое выучивал. Я даже сказал бы, мне хватает послушать учителя, когда он зудит в классе, — и все. Голова у меня такая, что факты, даты, формулы, имена неизгладимо застревают в ней. Но не думайте, что я безразличен к политике. Вот уж нет. Если я против математики, так почему же мне не быть против фашизма? Не люблю, когда меня толкают, тем более автоматом. Это ясно. Что мне не нравится в политике, так это бесконечные дискуссии, голосования уже перед рассветом и особенно самокритика, она напоминает давние и неприятные времена, когда приходилось исповедоваться — вот это мне совсем не по вкусу. И не потому, что было или сейчас нужно что-то скрывать. Никогда не было за мной серьезной вины, требовавшей исповеди или самокритики. Наверное, потому я и не выношу их. Может, завидую немного тем типам, которые расписывают свои смертные грехи потрясенному священнику или голосят о своих мелкобуржуазных пережитках на студенческих собраниях. Однако (повторяю) я попался не из-за чего-нибудь, а по глупости. В четверг двадцать второго отмечался год со дня смерти Мерседитас Помбо, — может быть, видели это имя в газетах (не в Монте, конечно, а в Байресе