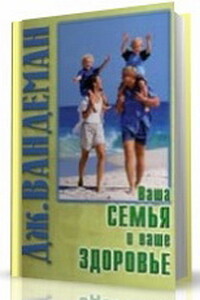Антология восточно-христианской богословской мысли. Том 2 | страница 54
Факт гот, что уже св. Евлогий Александрийский оспаривает то самое отождествление ипостаси и ипостасной идиомы, которое, ссылаясь именно на св. Григория Богослова (у него это о гождествление встречается неоднократно[222]), использует в полемике с тритеизмом Филопона его соперник по влиянию на христиан Александрии монофизитский патриарх Дамиан и его последователи. Имея в виду, что по версии палестинского происхождения прп. Максима, получившей широкое признание в современной патрологии[223], он, скорее всего, перебрался после завоевания Палестины персами в 614 г. в Александрию[224] и вполне мог знать сочинения св. Евлогия.
Таким образом, прп. Максим в своем выпаде против тритеитов мог ставить задачу, состоявшую не только в непосредственной полемике с этим учением, но и в том, чтобы показать, что богословие св. Григория, если его понимать правильно, а не злоупотреблять его отдельными выражениями, вполне справляется с опровержением тритеизма, не впадая в противоположное заблуждение, каким было учение, отождествляющее ипостась с ипостасной особенностью, а кроме того, он мог хотеть выявить то в богословии св. Григория, что составляет его существо, а не относится к риторическим выражениям, которыми как раз и злоупотребил Дамиан и его последователи. Имея в виду сказанное, обратимся теперь к самому тексту Char. 2.29.
С самого начала прп. Максим обозначает «параметры», в рамках которых он будет вести речь; это отношение ипостасей Троицы к сущности (которая у Них одна и та же) и отношение ипостасей (главным образом, Отца и Сына) друг к Другу (оно характеризуется «неотделимостью»): «Когда Господь говорит: «Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30), Он обозначает тождество [Божественной] сущности (τό ταύτόν τής ουσίας). А когда говорит: «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 10, 38), то показывает неотделимость [или: неразлучность, τό άχώριστον] ипостасей»[225]. Именно «отделение» ипостасей Троицы друг от друга называется главным заблуждением тритеитов: «А тритеиты, отделяющие [или: разлучающие — χωρίζοντες] Сына от Отца, с обеих сторон падают в пропасть»[226].
В этом «выпаде» прп. Максим никак не эксплицирует свое понимание учения тритеитов VI в., так что мы даже не можем сказать, насколько он знал его основные посылки и логику[227]. Единственно, что мы можем заключить из начала Char. 2.29 — это то, что он вменяет в вину тритеитам именно «отделение» ипостасей друг от друга, из которого следуют две равно неприемлемые и гибельные альтернативы: