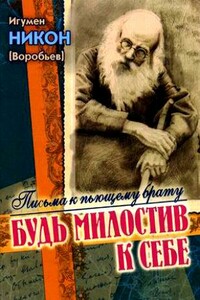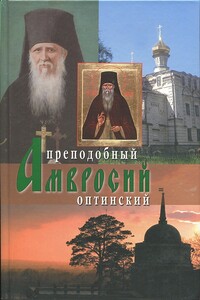Антология восточно-христианской богословской мысли. Том 2 | страница 37
9. Прокл утверждает, что сказать, что Он [т. е. Творец] сначала не творил, потом же творил, то есть, что Он сначала имел только способность (εξιν), после же вместе со способностью имел и действие (ένέργειαν), значит совершенно отвергнуть учение о неизменности Бога. Ибо тогда Он не будет всегда тем же и таким же, когда–то действуя, а когда–то нет.
Прекрасно, о удивительный! Между тем, и наши доводы показали, и свидетельство Аристотеля подкрепило, что продвижение от способности ко второму [роду] действия[165] не производит ни изменения, ни движения даже в сотворенных, а тем более в Боге. Ибо изменение делает другим подлежащее (τό υποκείμενον), но тот, кто обладает совершенной способностью, а потом действует, не становится другим ни в каком отношении по сравнению с тем, чем был прежде.
Может быть, однако, у тебя вызывает эти домыслы, точнее, дает тебе материал для ложных доводов то, что у нас[, людей] обладающие умением (έπιστήμας), когда хотят произвести действие, соответствующее их способности, должны, несомненно, совершить движение телесными органами, поскольку не могут достичь своей цели исключительно одной мыслью и по этой причине оказываются в некоем ином состоянии [или: положении, διάθεσιν], не в умственном [плане], а в физическом (τό όργανικόν), я имею в виду тело. И именно поэтому ты выставляешь перед отроками, как своего рода пугало [идею], что некое иное состояние должно с неизбежностью возникать и у Бога, если Он, прежде не творя, впоследствии творит.
Однако если Бог всегда совершенный Творец всего, как вечно имеющий логосы творимого [Им], и творит все только желая [или: воля] [это], не нуждаясь ни в каком [телесном] органе, чтобы привести все вещи в бытие, то Он никоим образом не изменится в отношении Самого Себя, творит ли Он или не творит. Ибо Он вечно имеет умозрения (νοήσεις) и логосы (λόγους) сущих, посредством которых Он и является творцом, одним и тем же образом, и не изменяется ни в каком отношении, творит ли Он или не творит. Ибо, в общем, неверно даже говорить, что способность и действие это разные вещи применительно к Богу; обе одно и то же, а различие возникает лишь относительно причаствующего (περί τό μετέχον).
Но я вернусь немного назад и постараюсь сделать то, о чем я говорю, яснее на примере. Ведь у всякого умения (έπιστήμης) есть две стороны, одно это созерцаемое в состоянии души, [его] мы называем созерцанием (θεωρίαν), или мышлением (νόησιν), а второе [соответствует] выхождению вовне, когда мы сообщаем наши мысли другим. Когда мы обладаем умением только через мышление и созерцание, то говорится, что мы ими обладаем как способностью (καθ’ εξιν), а когда мы помышления души износим вовне, будь то посредством слов, как [это происходит] со словесным умением (мы называем это преподаванием (διδασκαλίαν)), будь то посредством действия рук, как [это происходит] в случае делателей, то говорится, что мы действуем в соответствии со способностями.