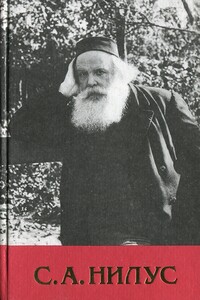Антология восточно-христианской богословской мысли. Том 1 | страница 49
«Только на фоне [согласия по многим пунктам, существующего между Климентом и гностиками] можно оценить характерные различия»[104] — различия в интерпретации общего, как было показано, христианского наследия.
И Климент, и его оппоненты принадлежали к единой александрийской богословской традиции, в которой христианское откровение отождествлялось с иорданской теофанией — нисхождением Света во время крещения Иисуса — и тем самым с христианским крещением, техническим термином для обозначения которого стало ко времени Климента — возможно, под влиянием языка мистернальных религий — слово φωτισμός (просветление). Но, разумеется, Климент никак не разделял отношение своих оппонентов к творению — отвергая представление об «изначальном смешении» как порочащее его — и к Творцу. Соответственно, для него священная история Ветхого и Нового Заветов есть единая «история спасения» и единая история Боговоплощения, спасительного и обоживающего действия Света-Логоса как в ветхозаветных праведниках, так и в крещаемых христианах. Посредством крещения человек находит обратный путь к своему истоку в таинстве изначального творения.
В этом направлении Климент отходит от ранее существовавшего в Александрийском богословии представления — того, которое отстаивали его оппоненты: василидиане и валентиниане, — и делает он это за счет обращения к некоторым экзегетическим идеям Филона.
Климент — самый ранний из известных христианских авторов, «в отношении которого мы можем быть абсолютно уверены», что он читал Филона[105], и христианское учение приобретает у него характерно «филоновский поворот», в котором иногда видят его «зависимость» от Филона. Однако в соответствии с принятым в данном исследовании подходом можно утверждать, что это не простая зависимость и что у Климента была своя богословская мотивация для такого поворота, а именно его неудовлетворенность тем, как его предшественники понимали временные характеристики Боговоплощения.
Для последних, как показывает анализ «Евангелия истины», откровение Бога во Христе начинает временной ряд, не имеющий общей «временной оси» не только со временем «сновидения», но и с мифом о сотворении мира или с «историей спасения», как они рассказаны в Ветхом Завете.
Иначе мыслит время Филон, для которого все оно одинаково нереально. Пробуждение и возвращение к реальности есть для него — переход из мира временного (чувственного) в мир вечного (интеллектуального), мир Логоса, отождествляемого им с Днем Единым творения, вневременным, не принадлежащим к последовательности сменяющих друг друга дней и ночей, составляющей время. А значит, Свет этого Дня может просветить мудреца в любой момент истории.