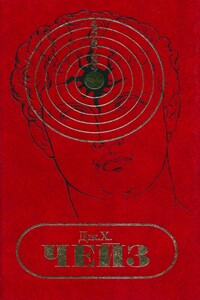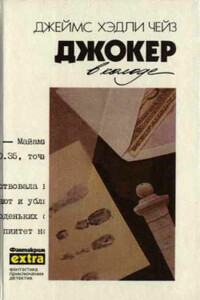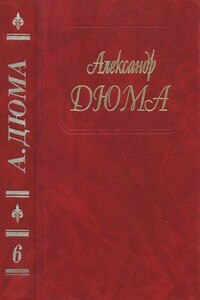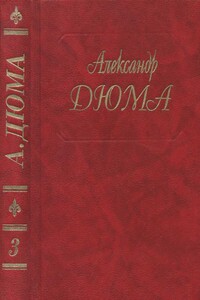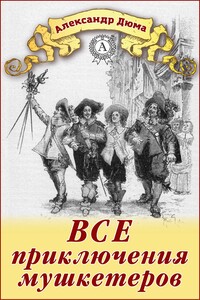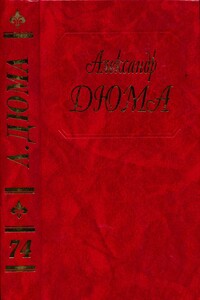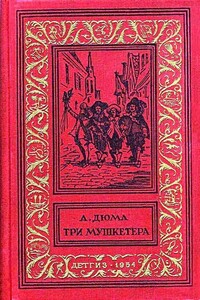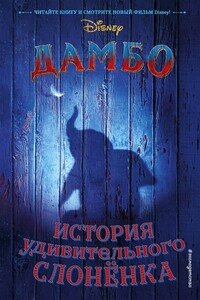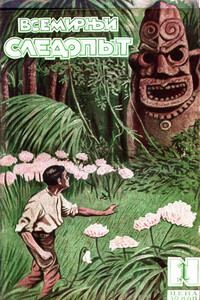Женитьбы папаши Олифуса | страница 70
Я подошел к троим, которым всем вместе было тогда сорок шесть лет — столько же, сколько одному из них сегодня.
Госпожа Капель представила меня своему спутнику; мы были ровесниками; с этого дня началась наша дружба, неизменная и в мрачные и в радостные дни. Сегодня, когда мы встречаемся, мы приветствуем друг друга той же веселой улыбкой, с тем же сердечным порывом, что и двадцать пять лет тому назад.
Увы! Я вынужден признать, что и в нынешние времена равенства Адольф де Лёвен не только литератор, но литературный аристократ.
Он и его семья были высланы из Парижа; они не должны были ближе чем на двадцать льё подходить к нему: этот город был запретным для их семьи по распоряжению старшей ветви Бурбонов.
Но, как молод он ни был, он успел ступить ногой на землю столицы, успел пригубить из опьяняющей чаши, откуда пьют вначале надежду, затем славу, а напоследок остается лишь горечь. Он успел вкусить лишь надежду.
Он пробовал писать для Жимназ, где знал Перле, превосходного актера, которого знают все те, кому сейчас от тридцати пяти до сорока лет, и красивую девушку, чье имя — Флёрье — распускалось, словно роза (говорят, она умерла от яда).
Все эти имена были совершенно неизвестны мне, бедному провинциалу, покидавшему родной город лишь ради короткой поездки в Париж в 1807 году, о которой у меня сохранилось одно туманное воспоминание: «Поль и Виргиния» в исполнении Мишю и г-жи де Сент-Обен.
Между тем высокие буки в лесу Виллер-Котре, посаженные Франциском I и г-жой д’Этамп, буки, в тени которых отдыхали Генрих IV и Габриель, эти буки, с их темной листвой и долгим шелестом, не были для меня немыми.
Поэтами той эпохи были Демустье, Парни и Легуве.
Все трое проходили под прохладными колеблющимися сводами большого парка, сегодня уже погибшего вместе со многим другим великим; но, когда в детстве я ловил там бабочек или собирал цветы, мне не раз случалось, остановившись, читать стихи, написанные на серебристой коре собственной рукой поэта: общее поклонение берегло их от малейшего повреждения.
Так что первые поэтические строки стали мне известны не из книг: я прочел их на деревьях, где они, казалось, росли сами собой, подобно цветам и плодам.
И не раз, словно одиноко стоящая в углу лира, откликающаяся на голос арфы, чьи струны оживают под пальцами музыканта, — не раз я в ответ издавал свои нестройные, неловкие поэтические младенческие крики.
Когда, сидя рядом в тени одного из этих деревьев, в этой вековой тени, окутавшей нас обоих, нас, чьи отцы родились в разных концах света и кого случай свел для того, чтобы каждый из нас влиял на судьбу другого; когда де Лёвен приподнимал передо мной, кого ожидало смиренное и спокойное существование провинциального чиновника, уголок завесы, скрывавшей от меня столичную жизнь; когда с юной верой, золотым одеянием, которое тускнеет и ветшает с каждым днем зрелости, он говорил мне о борьбе, об известности, о славе; когда передо мной вставали эти аплодирующие зрители, это высокое опьянение успехом, такое мучительное, что высшие радости его близки к пыткам, а смех звучит подобием стона, — я ронял голову в ладони и шептал: