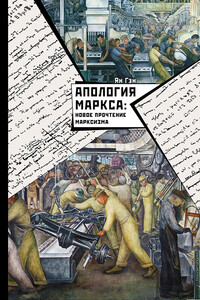От существования к существующему | страница 21
Целостность нашего бытия-в-мире характеризуется структурой, в которой объект точно согласуется с желанием. Объект действия, по крайней мере на уровне феномена, никогда не отсылает к озабоченности существованием. Именно он составляет наше существование. Мы дышим, чтобы дышать; едим и пьем, чтобы есть и пить; укрываемся, чтобы укрываться; учимся, чтобы удовлетворить наше любопытство; гуляем, чтобы гулять. Все это — не для того. чтобы жить. Все это и значит жить. Жить — это откровенность. Мир, — в противоположность тому, что миром не является, — это мир, где мы живем, гуляем, обедаем и ужинаем, ходим в гости, посещаем школу, беседуем, ставим опыты и занимаемся исследованиями, пишем и читаем книги; это мир Гаргантюа и Пантагрюэля, а также Мессира Гастера, первого Знатока Искусств в мире; но это и тот мир, где Авраам пас свои стада, Исаак рыл колодцы, Иаков строил дом, где Эпикур возделывал свой сад и где «каждый защищен тенью своего фигового дерева и виноградника».
Быть в мире значит именно вырваться из последней причастности к инстинкту существовать, из всех пропастей Я, которому никогда не освободиться от масок, чьи положения всегда — позы, кто не способен исповедоваться, — и откровенно идти к желаемому, принимая его за то, что оно есть. Это сама возможность желания и откровенности. В цепи, которая. по Хайдеггеру, приводит каждый миг нашего существования к задаче существовать и где, нажимая на наш дверной звонок, мы открываем полноту существования, так как по ту сторону действия мы уже прошли все промежуточные этапы, отделяющие это действие от самой заботы быть, — сознание описывает замкнутый круг, где и пребывает, отказываясь от всякой последующей конечной цели, круг, где может быть место удовлетворению и исповеди. Этот круг и есть мир. Сопряженность с заботой в нем, по крайней мере, ослаблена. В эпохи нищеты и лишений за объектами желания брезжит тень последующей конечной цели, затемняющая мир. Когда нужно есть, пить и согреваться, чтобы не умереть, когда пища становится топливом, как на некоторых тяжелых работах — кажется, что перевернутый, абсурдный, приближающийся к своему концу мир должен быть обновлен. Время выходит из себя.
Совершенно очевидно, что желание не самодостаточно, оно сопряжено с потребностью и отвращением к сытости; но мир в онтологической авантюре — это эпизод, вовсе не заслуживающий названия падения, обладающий собственным равновесием, гармонией и позитивной онтологической функцией: возможностью вырваться из анонимного бытия. Мы воспринимаем мир всерьез в тот самый момент, когда он, кажется, рушится, а мы еще предпринимаем разумные действия и поступки; когда приговоренный выпивает свой стакан рома. Назвать мир обыденным и осудить как неподлинный значит недооценить искренность голода и жажды; под предлогом защиты человеческого достоинства, скомпрометированного вещами, закрыть глаза на ложь капиталистического идеализма, а также на предлагаемое им бегство в красноречие и опиум. Великая сила марксистской философии, исходящей из человека экономического, состоит в возможности полностью избежать лицемерия проповеди. С позиций искренности намерения, чистосердечия голода и жажды предлагаемый марксистской философией идеал борьбы и самопожертвования, побуждение к культуре — лишь продолжение этих намерений. Марксизм притягателен именно сущностной искренностью этого предложения и призыва, а не мнимым материализмом. Он вне всегда возможного подозрения, бросающего тень на любой идеализм, не коренящийся в простоте и однолинейности намерения. Ему не приписываются задние мысли лжеца, а также того, кто обманут или пресыщен.