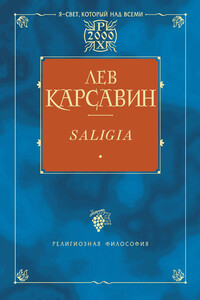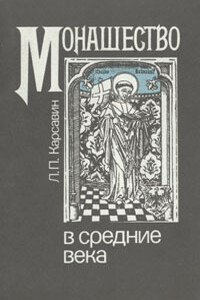О личности | страница 26
Разъединенность, «распределенность» или множественность личности прежде всего опознается в противопоставленности «я» более или менее отчуждаемым им его моментам. Само «я» при этом или остается неопределенным и нераскрытым, «первичным», или является активно раскрывающимся новым многоединство м, или предстает как относительное воссоединение «я» с прежде им отчужденным. На основе этой разъединенности и производно от нее возникает взаиморазъединение отдельных моментов и аспектов личности, как бы превращая ее («я») в бездейственного зрителя того, что в ней происходит. Таковы, например, взаимопротивопоставленность борющихся друг с другом мотивов–влечений, противоречивых мыслей, борьба «лучшего я» с «худшим», «раздвоение» личности. Не следует, впрочем, вслед за «бездушною», т. е. беспаспортною психологиею, преувеличивать взаиморазъединенность моментов и забывать о ее «производности» или «вторичности». Иногда нам, правда, кажется, будто в личности взаимопротивостоят совершенно разъединенные и самостоятельные моменты или аспекты, а «я» со стороны спокойно наблюдает их борьбу или вовсе отсутствует. Но в этих случаях мы либо плохо наблюдаем, либо еще хуже истолковываем наблюдаемое, пытаясь втиснуть жизнь личности в грубые, мертвые естественно–научные схемы. С принципиальной же точки зрения моменты личности могут соотноситься только в чем–то, т. е. в самой личности, и только в качестве ее могут быть активными. Чтобы стать моментами одной личности, они прежде этого должны быть единством в ней и в качестве ее. Их разъединенность не может превышать разъединенности между «я» и «сознаваемым».
Присмотревшись к жизни личности повнимательнее, мы замечаем, что всякий ее момент проистекает из самого ее средоточия, из «я». Он отчуждается и удаляется от «я», но далеко не всецело, так что в некоторой мере может с «я» воссоединиться. В своем отчуждении–удалении он пассивен, как момент, и активен, как сама личность. Даже в процессе так называемой «борьбы» моментов (мотивов, влечений) на самом деле не они борются, но «я» (впрочем, не пребывая неизменным) словно попеременно «переливается» из одного в другой. То оно «вливается» в первый и, преодолевая свою от него отчужденность, воскресает в качестве его, все более и более отчуждая и предавая небытию второй; то оно снова оставляет его во власть небытия и так же отожествляется со вторым. И всякий раз воссоединяемый с «я» момент уже и новый, так что: само «я» все время изменяется, развивается чрез свое же небытие. Перед нами не борьба двух моментов, представляющаяся тому, кто пытается смотреть извне, даже не задавая себе вопроса, где борьба происходит и что она такое, и кто, во власти «естественно–научных» навыков, пользуется всепространственностью и всевременностью личности лишь для того, чтобы воображать ее в виде наполненного телами–моментами («элементами») пространства. Перед нами — борьба личности с самой собою, ее самопреодоление и потому свобода (§ 1—2), — ее саморазъединение, борьба с собою за самовоссоединение и, наконец, восстановление ею своего относительного единства (§ 3—4).