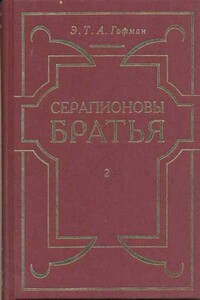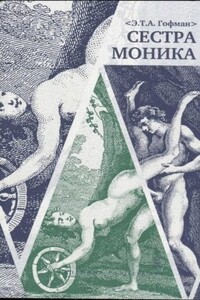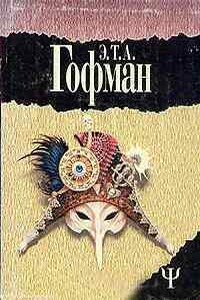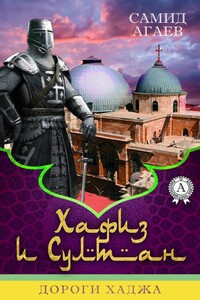Дож и догаресса | страница 17
— Послушай, — сказал мрачно Антонио, — мне кажется, я должен тебе верить, но скажи, кто был мой отец? Как его звали? Какой удар судьбы перенес он в ту ужасную ночь? Кто был мой воспитатель? И что такое удивительное случилось со мной в жизни, что уже одно смутное о том воспоминание овладевает всем моим существом до того, что мысли мои теряются, точно в потемках. Скажи мне все это, и тогда я поверю тебе, загадочная женщина!
— Тонино, — отвечала старуха вздохнув, — для твоего же добра должна промолчать я об этом, но скоро, скоро узнаешь ты все! Фондако, Фондако, берегись Фондако!
— Не нужно мне твоих загадок! — гневно воскликнул Антонио. — Сердце мое истерзано. Говори или…
— О, без угроз! — быстро возразила старуха. — Разве я не твоя верная кормилица и нянька?
Тут Антонио не выдержал и, не дожидаясь конца слов старухи, быстро вскочил и убежал без оглядки, закричав ей, впрочем, издали:
— Новый плащ тебе будет! Цехинов также бери, сколько хочешь.
Старый дож Марино Фальер представлял действительно любопытное зрелище, когда его видели с молодой, цветущей женой. Он, хотя еще бодрый и крепкий, но с седою как лунь головой и испещренным морщинами темно-красным лицом, старался ходить твердым шагом, гордо закинув голову. Она — сама прелесть, с ангельской кротостью и неотразимым очарованием во взгляде, с выражением истинного достоинства на лилейно-белом, обрамленном темными локонами лице, с головкой, склоненной несколько набок, ходила легко и спокойно, точно ни малейшего труда не стоило ей нести стройное, гибкое тело. Живая картина да и только — такова была Аннунциата, но картина, какие умели писать только старинные мастера. Мудрено ли, что появление ее очаровывало всех и что не было молодого патриция из Синьории, который при виде этой пары не преследовал бы в душе самыми злыми насмешками старика и не клялся употребить все средства, чтобы сделаться во что бы то ни стало Марсом этого старого Вулкана.
Аннунциата скоро увидела себя окруженной воздыхателями, но вкрадчивые их речи не производили на нее ни малейшего впечатления. Чистая, ангельская душа ее не могла даже допустить между ней и ее державным супругом каких-либо иных чувств, кроме верности самой нерушимой и безусловной преданности. Он был с ней ласков и добр, называл ее нежнейшими именами, прижимая в своему уже охладевшему сердцу, осыпал драгоценными подарками, какие она только желала. Чего же больше могла она от него требовать? Мысль стать ему неверной не могла даже зародиться в ее душе. Все то, что лежало за границей таких отношений, было для нее неизвестной, закрытой туманом областью, куда ее невинный глаз не мог даже проникнуть. Таким образом, все домогательства молодых волокит оставались безуспешны.