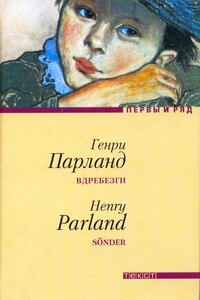Язычник | страница 11
душным, - но это и была мать. После таких снов очнувшаяся Таня садилась среди ночи в постели и беспокойно думала сквозь духоту: "Чего хочет?.. Жива ли?.."
В Тане со временем проявилось много случайностей. В тонкой шустрой девочке прорезалась порода, не похожая на ее маленьких кривоногих опухших родителей. Никто не знал реального Таниного отца. Но ее семейный отец, не способный к деторождению, упустивший любовный миг супруги с захожим бичом, не утруждался ревностью. Внешний мир давно не совпадал с устройством его души. Снаружи могло быть солнечно, застольно, буйно, а он забивался в какой-нибудь свой внутренний затхлый чулан и сидел там весь день. Он давно смекнул, что ничего не зацепишь из жизни судорожными, вовсе не приспособленными к тому руками, и не психовал по поводу своих несостоявшихся притязаний. Он жил, конечно, как в проходном дворе, сама жизнь была проходным двором, у сахалинской бични все проходное: комнаты в бараках, женщины, работа, друзья, мысли; все у них - труд, пьянки, любовь, мордобой свалено в одну кучу. Но Танин отец, тщедушный человечек, похожий на затоптанный папиросный окурок, умел через свою фантазию делать жизнь настоящей и желанной: "То мне не мерещится, то - здесь", - так, наверное, сформулировал бы он свой мир, если бы умел рассуждать. Он заимствовал что-то у снов, а сны втягивали в себя его жизнь - одно с другим смешивалось, наполняя отца причудливостью и надеждой.
- Вальк, - мог сказать он, - а что за мужик приходил вчера меня на работу звать?
- Какой мужик?
- Да в костюме, в галстуке. На работу звал, электриком в исполком.
- Не озверел, часом? - таращилась супруга. - Гад ты! Проспись ты, гад ты поганый!.. Приснится же страсть!
- Ну и что... - Он пожимал плечами, удивляясь ее непонятливости. Почем я знаю: приснилось - нет. А мне все равно уважительно.
Он никогда не спрашивал себя, есть ли граница между реальным и привидевшимся, и, когда ему пытались внушить, что находиться на границе этих двух миров плохо, он искренне не понимал, почему плохо. Назвав родившуюся Таню дочерью, он полюбил ее с беззаветностью сентиментального алкоголика. Любовь шла из него теплым неумелым сюсюканьем: он и годовалую, и четырехлетнюю Танечку тискал одинаково - нежно щекотал, агукал или, усадив на колени, подбрасывал, приговаривая: "Гули-гули-гулюшки..." И напитавшаяся в Таню за короткое детство нежность впоследствии во взрослой женщине преобразилась даже в слабость, в безвольную и бездумную преданность мужскому племени.