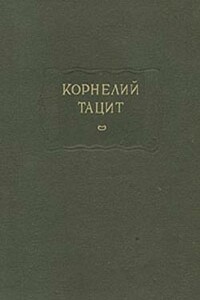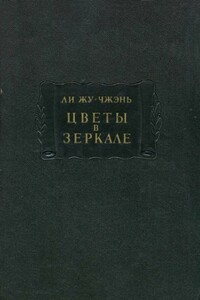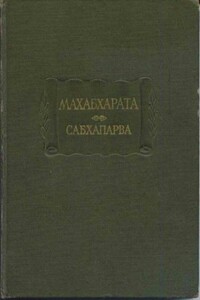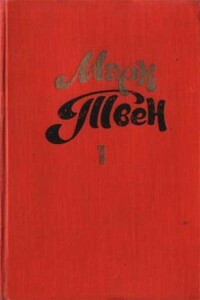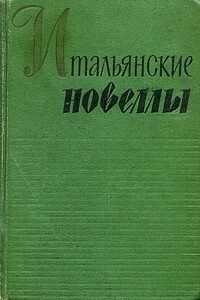Генрих фон Офтердинген | страница 28
— На этой лютне играл мой брат, — молвила она. — Это его прощальный подарок, все, что мне осталось от нашего имущества. Лютня как будто полюбилась вам вчера, а вашему подарку нет цены, ваш подарок — сладкая надежда. Вот вам жалкий знак моей благодарности. Возьмите лютню и не забывайте бедную Салиму. Мы свидимся, я знаю, быть бы мне тогда счастливее.
Генрих прослезился, он отклонил подарок, понимая, как дорога ей лютня.
— У вас в волосах, — молвил он, — я вижу золотую ленту с непонятными письменами, если только она не служит вам напоминанием о ваших родителях или о вашей родне, позвольте мне взять эту ленту, а взамен примите покрывало, которое моя мать будет рада вам оставить.
Наконец она уступила его настояниям, отдав ему ленту с такими словами:
— Мое имя обозначено на этой ленте буквами моего родного языка. Я сама вышивала эти буквы, когда мне жилось веселее. Рассматривайте мою ленту, когда вам захочется, и не забывайте: ею были заплетены мои косы в долгую печальную пору, когда я увядала, а золото тускнело.
Мать Генриха сняла покрывало, вручила пленнице, привлекла ее к себе и обняла прослезившись.
Глава пятая[35]
Еще несколько дней они ехали, пока не достигли деревни, за которой виднелись острые вершины холмов, как бы рассеченных глубокими обрывами. Окрестности благоприятствовали земледелию и не лишены были красот, хотя безжизненные горбы холмов выглядели жутковато. На постоялом дворе было чисто, прислуга была расторопная, и в комнате собралось порядочно народу, кто остановился на ночлег, кто просто зашел выпить, все сидели и толковали о разных разностях.
Наши путешественники не сторонились людей и охотно заговаривали с другими. Общим вниманием завладел один старик, одетый не по-здешнему[36], который, сидя за столом, дружелюбно отвечал на вопросы любопытных. Он был чужестранец, спозаранку обследовал сегодня местность и рассказывал теперь о своем промысле и о своих нынешних находках. Старика величали старателем. Он, однако, нисколько не кичился своим опытом и своей сноровкой, хотя в его речах веяло неведомое и непривычное. По его словам, он был уроженцем Богемии.
Уже в юности он изнывал от любопытства: нельзя ли проникнуть в глубь гор, нельзя ли узнать, откуда вода в родниках, где залегает золото, серебро, самоцветы, такие желанные для человека.
Посещая ближнюю церковь при монастыре, он привык вглядываться в эти застывшие огни на иконах и на ковчегах с мощами, и как он желал услышать от них самих, камней, откуда они, таинственные, родом. Говаривали, будто их доставляют издалека, но ему всегда думалось, почему бы не находиться подобным сокровищам и драгоценностям в окрестностях. Недаром ведь горы такие объемистые, такие высокие и такие непроницаемые, да, помнится, и ему самому попадались в горах разноцветные яркие камушки. Он без устали лазал по расселинам, забирался в пещеры и прямо-таки блаженствовал в этих древнейших палатах, любуясь вековыми сводами. Наконец один встречный надоумил его: надо, мол, идти в горняки, тогда, дескать, ему откроется все то, что так занимает его, в Богемии, мол, рудников хватит. Знай иди вниз по реке, и дней через десять — двенадцать попадешь в Эулу