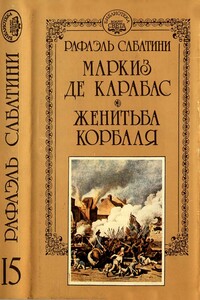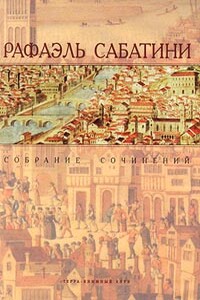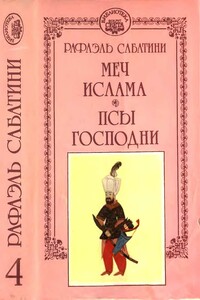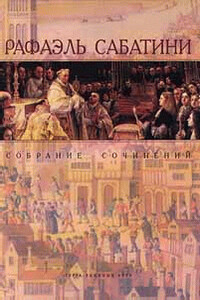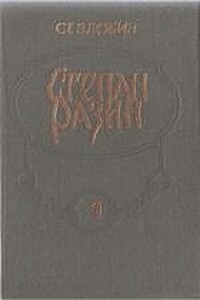Шкура льва | страница 38
— Ледюк, я уверен, всегда будет рад вас видеть. Он тоже учится манерам.
Это оскорбление Ротерби пропустил мимо ушей.
— Вот тогда мы и посмотрим, умеете ли вы что-нибудь еще, кроме как складно болтать.
— Надеюсь, что и ваша светлость владеет кое-чем другим. Оратор, на мой взгляд, из вас не ахти какой.
Его светлость вышел из комнаты, кроя мистера Кэрилла на чем свет стоит.
Гэскелл последовал за своим хозяином.
Глава 5
Лунный свет
Лорд Остермор, несмотря на некоторое замешательство, отнюдь не испытывал мучительного беспокойства по поводу обыска, которому должен был подвергнуться мистер Кэрилл. Будучи человеком, всегда приходившим к очевидным умозаключениям, он, проникшись уверенной и непринужденной манерой поведения этого джентльмена, убедил себя в том, что либо тот не имел ожидаемого им письма, либо распорядился оным так, чтобы свести на нет все поиски.
Таким образом, граф на какое-то время избавился от мыслей о послании короля. Вместе с Гортензией он вошел в гостиную через вымощенный камнем коридор, куда их проводила хозяйка, и с жаром обратился к теме побега подопечной с его сыном.
— Гортензия, — сказал он, когда они остались одни. — Ты вела себя глупо, очень глупо. — Он часто прибегал к повторениям, несомненно, полагая, что избитые выражения за счет этого обретают больший вес.
Девушка села в кресло у окна и вздохнула, окидывая взглядом холмы.
— Да разве я не знаю? — воскликнула она, и ее глаза, отведенные от графа, наполнились слезами — слезами гнева, стыда и унижения. — Да поможет Бог всем женщинам! — с горечью добавила Гортензия спустя мгновение.
Более чувствительный человек мог решить, что наступил подходящий момент для того, чтобы оставить несчастную девушку наедине с собой и своими мыслями, и, вероятно, ошибся бы. Вялый и прозаичный, но тем не менее питавший к своей подопечной определенную симпатию, переходившую в привязанность — насколько он, конечно, мог вообще быть привязан к кому бы то ни было за исключением себя, — лорд Остермор приблизился к ней и положил свою пухлую руку на спинку ее кресла.
— Дитя мое, что привело тебя к этому?
Гортензия набросилась на него почти с яростью.
— Леди Остермор, — ответила она.
Граф нахмурился. В глубине души он никогда не любил свою жену, не любил потому, что она была единственным человеком в мире, управлявшим им, попиравшим его чувства и желания; и еще потому, вероятно, что она являлась матерью его жестокого, отвратительного сына. Миледи была далеко не одинока в своем презрении к супругу, однако лишь у нее хватало смелости открыто демонстрировать свое отношение, да еще не стесняясь в выражениях. И все-таки, невзирая на нелюбовь к жене и ответное искреннее презрение, граф скрывал истинные чувства, сохраняя преданность своему вздорному, избалованному «я», и не проронил ни единой жалобы другим, оградив таким образом свои уши от их пересудов. Эта преданность самому себе, возможно, уходила корнями в гордость — иной почвы на самом деле и быть не могло, — ту самую гордость, что не позволяла посторонним бередить незажившие раны его бытия. Услышав теперь из уст Гортензии имя ее светлости, произнесенное в гневе, лорд Остермор нахмурился; и если его голубые глаза беспокойно заходили под нависшими бровями, то только потому, что ситуация его явно раздражала. Но граф сохранил молчание.