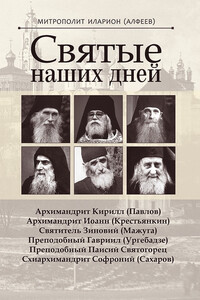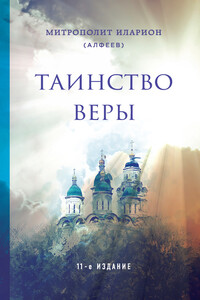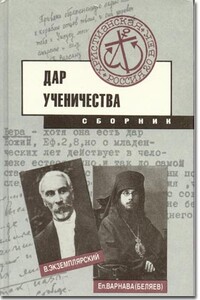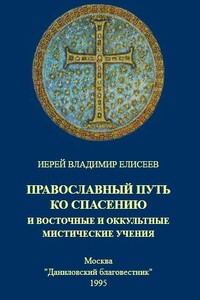Православное богословие на рубеже столетий | страница 63
У руководителей духовной школы, по мнению Владыки Антония, отсутствует восприимчивость к душевному настроению студента, потому они не умеют направить его внутреннюю и внешнюю жизнь в нужное русло. Постановка семинарского и академического образования должна была бы способствовать оживлению в учащемся религиозного чувства и развитию в нем творческой инициативы. На самом же деле казенщина, которая «тормозит, опошляет и окончательно губит нашу жизнь во всевозможных ее проявлениях» [113], накладывает свой отпечаток на духовно–воспитательный процесс, в основе которого лежит «принцип недоверия ученикам». Взаимное недоверие между, с одной стороны, администрацией школы и профессорско–преподавательской корпорацией, с другой — учащимися, приводит к раздвоению личности последних:
...Казенщина все сдавила своею мертвящею рукою. Принцип недоверия ученикам настолько заел школьную жизнь, что последние самым общим правилом своих отношений к школе, к начальству и наставникам ставят тщательное припрятывание всего, что сколько–нибудь касается их личности... Веселый и отзывчивый по природе студент в разговоре с официальным в школе лицом надевает маску педанта и говорит словами прописей... Вся учеба и воспитание духовной школы направляются к тому, что учащийся с детских лет начинает вести двойную жизнь: одну естественную, семейную, которая обнаруживается в его товарищеских отношениях и, пожалуй, у некоторых в богослужении, в молитве: здесь он — русский человек, христианин, православный и евангельский. Другая жизнь — официальная исправность в школьной дисциплине, в ответах из учебника, в писании сочинений и проповедей на темы; здесь вовсе не должно быть вносимо его душевное настроение; он барабанит языком о спасительных плодах Искупления, опровергает Канта, оправдывается перед инспектором во вчерашней неявке ко всенощной, вовсе не соображаясь с действительным настроением души, не спрашивая себя: веришь ли ты тому, что отвечаешь? [114]
Такое воспитание, подчеркивает Владыка Антоний, усыпляет и убивает в будущем пастыре его пастырскую совесть, лишает его нравственно–педагогической инициативы: оно превращает священнослужителя в требоисправителя. «Пастырская инициатива подсекнута в нем злом казенщины, пастырь в нем убит, и, конечно, овцы рассеются» [115].
Выход из положения видится Владыке Антонию в восстановлении связи между учащимися духовных школ и церковным народом, между школой и церковной жизнью, между учебой и реальностью. Чтобы такая связь была восстановлена, необходимо дать учащимся широкое поле для инициативы, для самостоятельной деятельности. Благодаря классным спектаклям, литературным вечерам и беседам литература изучается в десять раз быстрее, чем при рутинном преподавании. Греческий язык усваивается с несравненно б