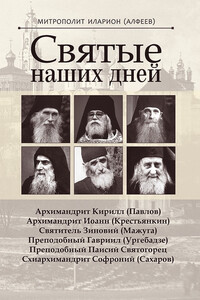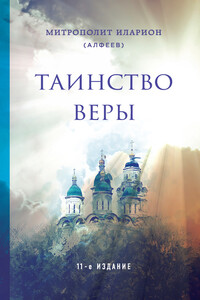Православное богословие на рубеже столетий | страница 59
Студентам духовных школ не дозволялись никакие развлечения, даже занятия музыкой не поощрялись, а иногда и прямо запрещались (в одной из духовных семинарий ректор разогнал самодеятельный оркестр, «разбив все гусли, скрипки и гитары о спины игравших»). Отсутствие дозволенных развлечений влекло за собой тягу к недозволенным, таким как пьянство и «обычный спутник этого порока» — разврат. За нарушения дисциплинарного режима наказывали весьма строго. Широко применялись телесные наказания: «Удары розог достигали до 100; тогда кровь текла ручьями, и истязаемый долго не мог оправиться». Бывали случаи смерти учеников в результате жестоких истязаний [104]. Общий приговор, который выносит Б. Титлинов духовным школам первой половины XIX века, суров: «Система духовно–школьного воспитания... мало отвечала той высокой цели и тем задачам и требованиям, которые предъявлялись к школе не только жизнью, но даже буквой устава... В ней не было духа живого, идеи; мало было любви и много невнимания к правам юношеской личности, к ее человеческому достоинству и индивидуальному складу» [105].
Говоря о духовных школах второй половины XIX века, автор отмечает те же самые недостатки, за исключением, разве что, телесных наказаний. «Дух обрядовой религиозности» и «военная дисциплина», основанная по–прежнему на «страхе Божием» и «послушании», оставались характерными чертами духовно–воспитательного процесса. К пьянству и разврату прибавились такие пороки, как игра в карты и курение. Уклонение от богослужения и лекций было обычным явлением. Обращение педагогов с учащимися отличалось грубостью: даже в академиях некоторые начальники не стеснялись называть учеников бранными словами. В семинариях отсутствовало физическое воспитание; за светскую музыку по–прежнему преследовали; даже светское чтение не поощрялось, а некоторые книги (в том числе произведения русских классиков) изымались из библиотек и запрещались. «Вся эта система воспитания, — говорит Б. Титлинов, — очевидно, была несостоятельна. Она действовала только на внешность, действовала страхом, и была бессильна не только исправить порочных, но даже и просто предупредить проступки. Подавленные суровым обращением и строгостью домашних кар, ученики были забиты и угрюмы; они смотрели на воспитателей как на врагов и старались по возможности не попадаться им на глаза» [106]. Многие выпускники духовных семинарий говорили: «Прожить двенадцать лет в бурсе