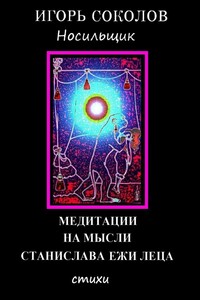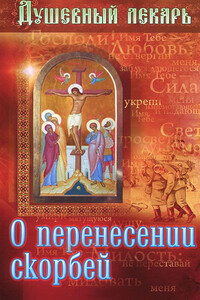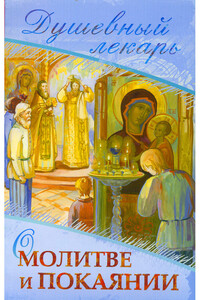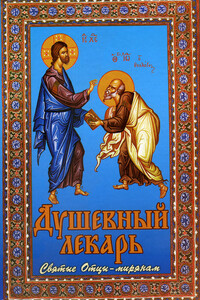Афоризмы. Русские мыслители. От Ломоносова до Герцена | страница 61
Что многие не поняли его
И вздумали за старое вступиться,
За глушь непросвещенья своего,
И заговор составили кровавый
Против царя…
(Н. М. Языков, 30, 14)
Лень и привычка – два несокрушимые столба, на которых покоится авторитет. Авторитет представляет, собственно, опеку над недорослем; лень у людей так велика, что они охотно сознают себя несовершеннолетними или безумными, лишь бы их взяли под опеку и дали бы им досуг есть или умирать с голоду, а главное – не думать и заниматься вздором. (А. И. Герцен, 7, 3, 1)
Внешний авторитет несравненно удобнее: человек сделал скверный поступок – его пожурили, наказали, и он квит, будто и не делал своего поступка; он бросился на колени, он попросил прощения – его, может, и простят. Совсем другое дело, когда человек оставлен на самого себя: его мучит унижение, что он отрекся от разума, что он стал ниже своего сознания, ему предстоит труд примириться с собою не слезливым раскаянием, а мужественною победою над слабостью. (А. И. Герцен, 7, 3, 1)
Первое дело, за которое принимаются люди, отбросив один умственный авторитет, – принятие другого, положим лучшего, но столь же притеснительного… (А. И. Герцен, 7, 3, 1)
Они лучше хотели выдумать искусственный авторитет, нежели оставить людей неподвластными… Тот, кто без веры хочет поработить другого чему-нибудь, тот сам порабощен, раб и плантатор вместе. (А. И. Герцен, 7, 3, 1)
Моралисты часто умилительно говорят о гибельном пороке властолюбия; властолюбие, как и все прочие страсти, доведенные до крайности, может быть смешным, печальным, вредным, смотря по кругу действий; но властолюбие само по себе вытекает из хорошего источника – из сознания своего личного достоинства; основываясь на нем, человек так бодро, так смело вступал везде в борьбу с природой… Совсем иное дело – умалчиваемая моралистами любовь к подвластности, к авторитетам, основанная на самопрезрении, на уничтожении своего достоинства, – она так обща, так эпидемически поражает целые поколения и целые народы, что о ней бы стоило поговорить; но они молчат! Считать себя глупым, неспособным понять истины, слабым, презренным, наконец, и получающим все свое значение от чего-нибудь внешнего – неужели это добродетель? (А. И. Герцен, 7, 3, 1)
Нет той всеобщей истинной мысли, из которой бы вместо расширения круга действий человек не сплел веревку для того, чтобы ею же потом перевязать себе ноги, а если можно, то и другим, так что свободное произведение его творчества делается карательною властью над ним самим; нет того истинного, простого отношения между людьми, которого бы они не превратили во взаимное порабощение: любовь, дружба, братство, соплеменность, наконец, самая