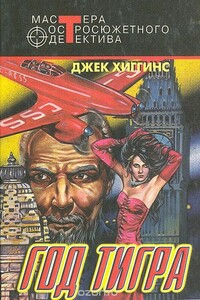Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография | страница 13
«У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно — по-русски или по-немецки» (II, 361–362).
На этом фоне отцовского безъязычия особенно выделяется восхищенное описание материнского языка:
«Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, — но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков» (II, 361).
«Речь отца и речь матери — не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык?..»
Флора Вербловская и Эмиль-Хацкель Мандельштам в год их бракосочетания (1889)
Для семьи, далеко продвинувшейся на пути ассимиляции, идиш — уже не язык общения. На идиш говорили родители Эмилия Мандельштама, Вениамин Зунделович Мандельштам и его жена Мере Абрамовна, переселившиеся в Ригу из курляндского местечка Жагоры. «В детстве я совсем не слышал жаргона, лишь потом я наслышался этой певучей, всегда удивленной и разочарованной, вопросительной речи с резкими ударениями на полутонах» (II, 361). В «Шуме времени» Мандельштам рассказывает о своем пребывании в Риге у бабушки и дедушки, и в этом описании можно видеть как пройденный уже путь ассимиляции, так и глубокое отчуждение от традиционного еврейства. Маленького Осипа ненадолго оставляют со стариками, не говорящими по-русски: «Родители ушли в город. Опечаленный дед и грустная суетливая бабушка попробуют заговорить — и нахохлятся, как старые обиженные птицы. Я порывался им объяснить, что хочу к маме, — они не понимали. Тогда я пальцем на столе изобразил наглядно желанье уйти, перебирая на манер походки средним и указательным.
Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подоспела мать» (II, 363).