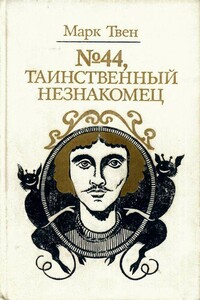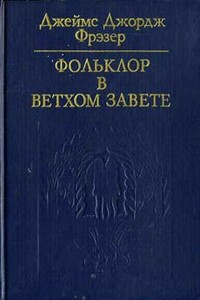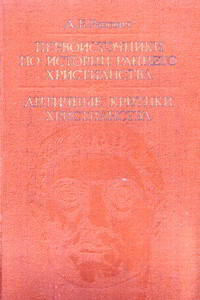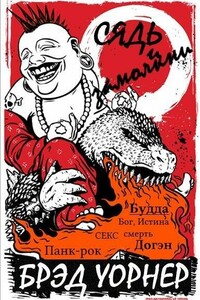величины вопросительный знак, который получил наименование христианства. Человечество преклоняется пред обратным тому, в чем заключались исток, смысл, оправдание евангелия; в понятии «церковь» человечество освятило все то, что преодолел и превозмог «радостный вестник»… — напрасно искать более грандиозную форму всемирноисторической иронии…
…Наш век гордится своим чувством истории: как же мог он уверовать в этот бред — будто христианство началось с
грубой побасенки о чудотворце-искупителе, а все духовно-символическое — только итог позднейшего развития?! Совсем наоборот: история христианства, начиная со смерти на кресте, — это история все более грубого непонимания
изначальной символики. По мере распространения христианства, захватывавшего широкие массы некультурных народов, чуждых тем условиям, при которых христианство зародилось, все более необходимо становилось придавать христианству
вульгарный и
варварский вид — так христианство усвоило вероучения и обряды всех
подземных культов в imperium Romanum
[37] >{39}, так оно впитало в себя бестолковщину всех видов больного разума. Судьба христианства определена с неизбежностью: вера должна была стать столь же нездоровой, низменной и вульгарной, сколь нездоровыми, низменными и вульгарными были потребности, какие надо было удовлетворить. И наконец, все это
больное варварство складывается, церковь — его сумма, и она становится силой — церковь, эта форма смертельной вражды к любой благопристойности, любому
возвышению души, любой дисциплине духа, любой искренней и благожелательной человечности… Есть ценности
христианские и есть —
благородные: только мы, чьи умы
раскованы, восстановили эту величайшую ценностную противоположность!..
…Я не в силах подавить вздох… В иные дни меня охватывает чувство, мрачнее самой черной меланхолии —
презрение к людям. И чтобы не было сомнений в том, чт
о я презираю, кого презираю, скажу: это современный человек, человек, с которым я фатально одновременен. Современный человек — его нечистое дыхание душит меня… К прошлому я, подобно всем познающим, куда терпимее, то есть
великодушнее и самоотверженнее: я прохожу через тысячелетний дом — мир умалишенных и, как бы он ни именовался — «христианством», «христианской верой», «христианской церковью», прохожу по нему с мрачной настороженностью, не решаясь привлекать человечество к ответственности за его душевные болезни. Но все резко меняется, и мое чувство прорывается наружу, когда я вступаю в новейшее, в