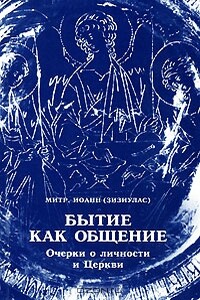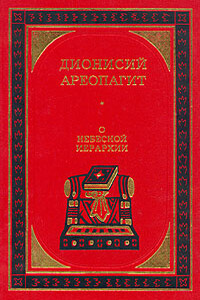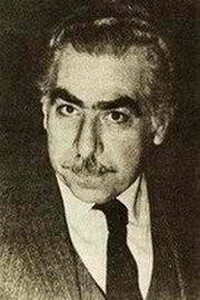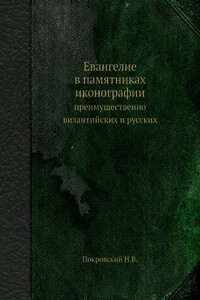Избранные работы | страница 51
Очевидно, что св. Силуан остался нетронутым современными моральными позициями против иереев и епископов. Пишет, однако: «Ты, может быть, думаешь, как может такой–то епископ, или духовник, или священник иметь Духа Святого, когда он любит поесть и имеет другие немощи? Но я скажу тебе: это возможно, если он непринимает плохих помыслов; так что хотя у него и есть некий порок, но это не мешает благодати жить в его душе, подобно тому, как зеленое дерево имеет некоторые ветви сухие, но это ему не вредит, и оно приносит плоды».
В этом вопросе св. Силуан олицетворяет типично традиционную экклизиологию, которая до наших дней характеризует всех монахов Православной Церкви, и исходит она из евхаристической экклизиологии, являющейся фоном его мысли и монашеской жизни.
Это лишь несколько заметок о богословии св. Силуана. Они нисколько не исчерпывают богословское значение его мысли. Для того чтобы дополнить картину, надо прибавить и другие аспекты, особенно имеющие связь с антропологией. Тем не менее, то, что было сказано, позволяет нам вывести некоторые основные заключения, особенно о связи между богословием и подвижнической жизнью.
Богословие — это «логос» о Боге. Этот «логос» может быть выражен словами, содержание которых и источник, однако, не находится в разуме. Они влияют на все наше бытие. Аскетическая традиция (предание) св. Силуана не принадлежит аскетическому образу Евагрия, акцентирующему внимание на очищение ума. Она больше относится к подвижническому преданию, которое перенял и развил св. Максим Исповедник, и к другим традициям, приводящих нас, через движение исихастов и афонское монашество, к нашей эпохе. То, на чем ставится ударение в этой традиции, есть очищение сердца, функционирующего как центр послушания и любви. В этой традиции любовь становится гносеологической категорией: посредством любви мы познаем, а так же сами познаем себя через любовь Божию. Этот аскетизм любви ведет к некому богословию, которое можно передать логическими понятиями, такими, как «связь», «личность», «общество» и т. п. К тому же, это богословие не является иррациональным, но производящим понятия , имеющие целью освобождение человеческого разума от (сухого) рационализма, давая нам возможность охватить в нашем слове о Боге все наше бытие так, как оно связывается с другими существованиями и, особенно, с Самим Богом, с Тем, Кто Есть превосходно, с Сущим.
Такое богословие очищения сердца от источника всех страстей, а именно самолюбия, проходя через Крест Христов, Который, будучи освобожден от всякого самолюбия и отождествлен с другими до смерти, ведет нас к откровению Божественного бытия, как Святыя Троицы любящих Лиц, и таким образом обожает нас, даруя нам Святого Духа как благодать познания Бога потому, что мы познаны Им во Христе, а именно, любя Его потому, что Он нас прежде возлюбил. Все это переживается в сообществе, которое Дух созидает как Тело Христово, как Церковь. Так, аскетизм не является чем–то параллельным Церкви, но, в конечном анализе, это место, где возделывается и вырабатывается в подвиге сущность Церкви как сообщество и любовь через борьбу против страстей, препятствующих сообществу и любви быть составляющими Церкви.