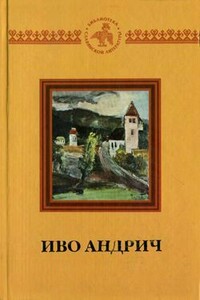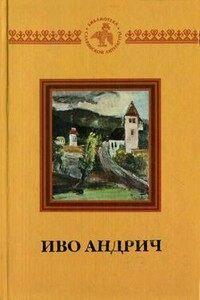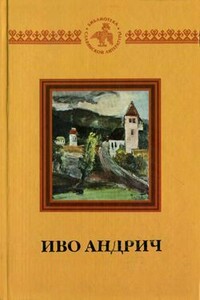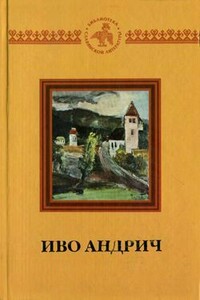Собрание сочинений. Т. 2. Повести, рассказы, эссе ; Барышня | страница 54
Когда все было готово, Елица поцеловалась со всеми по очереди и, не грустная и не веселая — обычная, будто уезжала на вокзал, спокойно села рядом с шофером в зеленый гестаповский автомобиль с мощными фарами и рефлектором.
Заяц обошел весь дом, еще носивший следы недавнего обыска. Остановился на мгновение перед столиком, где раньше стоял столь хорошо ему знакомый радиоприемник, задержался в углу, где был телефон, а теперь торчали из стены грубо обрезанные клещами провода. Все его внимание сосредоточилось на этих немых свидетелях недавних событий, словно главное заключалось в них. Потом он отправился пешком на Чукарицу и на Банов холм с поручениями, которые передал через Даницу Синиша. Но вот наступил вечер, когда надо было осмыслить случившееся.
Тогда-то и почувствовал Заяц незнакомую до сих пор боль. «Увел и девочку», — повторял он про себя тупо, механически, без конца. И, когда замолкал, эта фраза звучала в его ушах, словно умноженная многократным эхом: «Увели девочку, увели девочку», и такое безысходное горе раздирало его грудь, что по сравнению с ним бледнели все те страдания, которые до сих пор доводилось ему пережить. Ни утро, ни последующие дни не принесли облегчения.
Заяц не мог ни есть, ни спать, а Маргита и Тигр вызывали в нем физическое отвращение, и он старался на них не глядеть. Вообще, чем дольше шла война, чем крепче были узы, связывавшие ого с домом на улице Толстого и с «детьми», тем ничтожнее казались ему жена и сын. Синиша как-то предупредил Зайца о том, чтобы он при них ни словом не обмолвился о том, что доводится ему видеть и слышать на Топчидорском холме, но это предупреждение было излишним. Зайцу и без того никогда бы и в голову не пришло чем-то поделиться с ними. Словно жена и ее сын дышали другим воздухом и питались другим хлебом — такими чуждыми и лишенным и всякого интереса были они для Зайца. Он смутно вспоминал те времена, когда придавал значение словам Маргиты, а в ее взгляде искал оценки своим поступкам. Теперь мерилом всего на свете для него стала война, вернее, ее крохотный участок — «дети» с улицы Толстого со всей их деятельностью, направленной на то невидимое, что стояло за ними и направляло их.
В последние дни все его помыслы сосредоточились на судьбе Елицы. Зайца преследовали галлюцинации, он просыпался среди ночи, разбуженный ее голосом, и внимал ей с удивлением и нежностью, как когда-то, когда впервые услышал от нее эти слова и фразы наяву. «Положительный человек,» — говорила она, растягивая «ж». «Они учатся любить людей!» — однажды сказала она каким-то таким глубоким и проникновенным голосом и с таким просветленным лицом, что, глядя на нее Зайцу хотелось плакать от умиления и смеяться от радости, что есть такая вера, такие люди и такие слова. Теперь среди ночи он часто слышал их, и сердце его разрывалось от страха за судьбу Елицы.