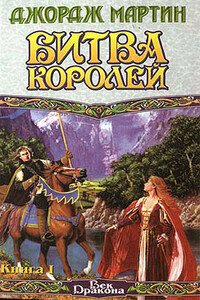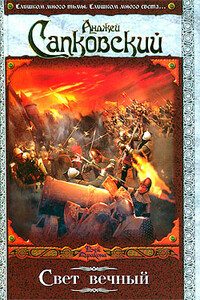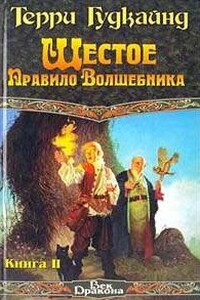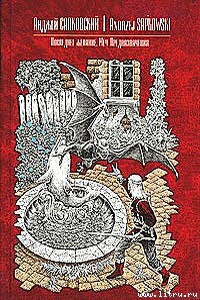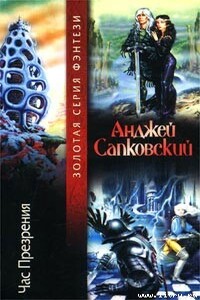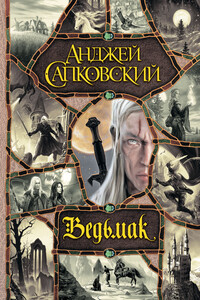История и фантастика | страница 66
Если же говорить об «идейной идентификации», то он же ведь не «отуречивается». Он наверняка не считает себя иноверцем, поскольку такого понятия в то время просто еще не существовало. Ведь гуситы, на сторону которых он встает, бьются за правильную и единственно истинную веру. Другой-то веры по-любому нет.
— Иначе говоря, вы очень ловко поставили в этом цикле проблему предательства. Можно сказать, что это вариант проблемы Кмицица (хотя тому было легче, потому что он был фанатичным католиком и польским литовцем). Положение Рейнсвана гораздо сложнее. В конце концов, даже его друзья — Шарлей и Самсон Медок — долгое время мучились проблемами в связи с выбором Белявы (например, их реакция на помощь гуситов: «Какие еще «наши»?» — «Твои!»). Как тут говорить о чувстве национальной принадлежности? То, что князья руководствовались своими местническими интересами, — одно дело, но что связывало все общество? Религия? Территориальность? Инстинкт самосохранения?
— Проблему предательства (я слегка опережу события) невозможно разрешить без знания всех частей трилогии, а ведь вам знакомы только две. Я же не могу рассказать, что произойдет и что убил-то лакей.
— Читая «Башню Шутов» и «Божьих воинов» и видя загнанных в тупик героев, которых развитие событий приводит к гуситам, мы долгое время готовы поверить, что симпатии автора на стороне тех, кто разделывается с католиками (с которыми польский читатель подсознательно себя ассоциирует), но когда мы доходим до сцены, в которой Пешек Крейчиж, проповедник сирот, начинает безжалостно уничтожать старые книги первой половины тринадцатого века, а потом и церковные скульптуры, а наши герои противостоят — рискуя, разумеется, жизнью — этому явному варварству, то мы видим, что здесь все гораздо сложнее и напоминает сомнения Жеромского в оценке революции: они уверены, что мятеж морально оправдан, но его цивилизационная — моральная — цена не может быть одобрена. Именно так выглядит ваш внутренний «расклад симпатий» в отношении гусизма?
— Мои «внутренние расклады» — мое личное дело и ничье больше. Что же касается эффекта, то упомянутые вами строки должны были как-то заставить читателя мыслить — тут вы не ошибаетесь. Именно эту цель я и преследовал.
— Повествователь «Божьих воинов» — всезнающий «медиум», не участвующий в действии наблюдатель, между тем мы не раз ловим его на том, что он и небеспристрастен, и необъективен. В противном случае что означают такие, например, фразы: «От церквей, в которых почитали римского антихриста, остались одни пепелища. Там и тут на сухом суку висел какой-нибудь продавшийся Риму прелат». Почему помещенный над действием, словно Божье Око, рассказчик симпатизирует террору? Ради усиления эффекта кошмарности происходящего? Придания повествованию большей трагичности (ибо это «сторонняя» точка зрения)?