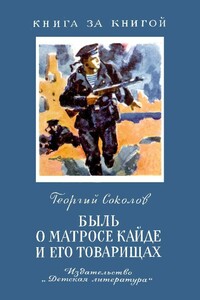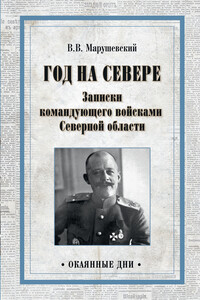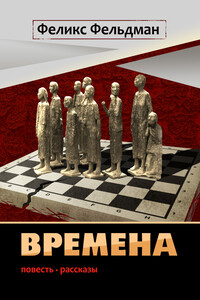Театр в квадрате обстрела | страница 14
Планы Акимова осуществились. Премьера спектакля «Питомцы славы» состоялась 7 ноября сорок первого года. Шуру Азарову играла Е. Юнгер, Кутузова — И. Смысловский, Ржевского — Б. Тенин. Первую блокадную годовщину Октября, один из трагичнейших моментов в истории блокады, Театр комедии отметил поэтичным, веселым и патриотическим спектаклем.
Ленинградское радио 7 ноября не транслировало этого спектакля — такие продолжительные передачи были тогда невозможны. Но уличные репродукторы разносили по городу мелодии Чайковского, толстовские периоды романа «Война и мир», строфы Пушкина. Когда чтец произнес в микрофон: «Да здравствуют музы, да здравствует разум…» — по городу ударили дальнобойные орудия фашистов. Это был прямой поединок. И репродукторы уверенно возразили пушкам.
В одном из выпусков «Радиохроники» сорок первого года выступил профессор Г. Гуковский. Он рассказал ленинградцам о судьбе Ясной Поляны — священного для каждого советского человека места русской земли. В последних числах октября в усадьбе Толстого поселились фашистские офицеры и их денщики. А в знаменитой комнате «под сводами», где при жизни Толстого попеременно располагались столовая, детская, кабинет Льва Николаевича, где писался роман «Война и мир», где впервые забилось сердце Наташи Ростовой, теперь звучала непристойная брань, лился шнапс и густо висел запах стойла.
А вскоре в ленинградских репродукторах зазвучали строки толстовского романа, прочитанные Юрием Владимировичем Толубеевым. «Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала…» — говорил князь Андрей.
Однажды холодным вечером сорок первого года возле уличных репродукторов собрались толпы людей. Нет, то звучала не экстренная сводка Советского Информбюро, не призыв штаба обороны города. Передавали очерк Льва Толстого «Севастополь в декабре месяце» — рассказ о стойкости четвертого бастиона в дни обороны Севастополя в 1854 году.
«Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, — и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя… Из-за креста, из-за названия, из-за угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине…»