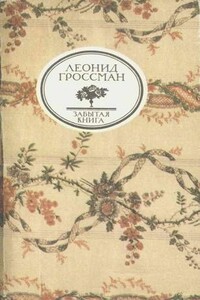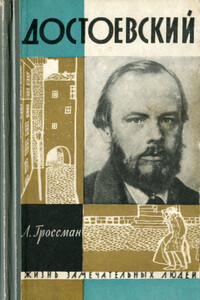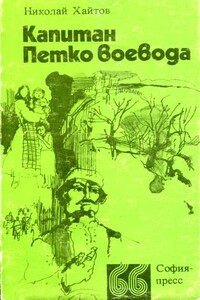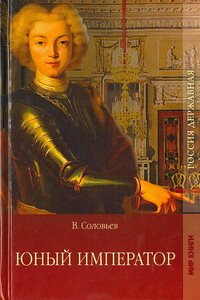Бархатный диктатор | страница 41
Как-то на Сабуровой даче Гаршин стоял, ожидая ванны, в мрачном углу больницы, освещенном одним окном с железной решеткой куда-то в стену. Огромная пасмурная комната со сводами, с липким каменным полом, окрашенная темно-красною масляной краской. Вода с монотонным плеском струилась в каменную яму среди пола. Под это длительное звучание больной стал вспоминать детство среди родных, ранние свои купанья, ласку матушки. Неясно и отрывисто блуждало в памяти:
…И слушает, как падает струя
Из медных кранов в звучные бассейны
Широких ванн…
Вдруг сильный удар в грудь сбивает его с ног, и он падает на пол без памяти.
– За что ты меня ударил? Что я тебе сделал?
Гигант-служитель указывает на приготовленную ванну.
Не воспоминания ли о Семеновском плаце возникли в сознании больного Гаршина, как только попал он в обстановку лечебницы? Ванна с мрачными сводами, котел с целой системой медных трубок и кранов, огромный угрюмый сторож, мушка на затылке… «Что это? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним?..» И когда солдат грубым полотенцем, сильно нажимая, быстро сорвал мушку с затылка вместе с верхним слоем кожи, больному почудилось, что ему отрубили голову…
Медленно он приходил в себя. Возбужденность испуга и ужаса сменилась усталостью и безразличием. Гаршин, беспомощный и бессильный, бродил часами по саду или лежал, словно под тяжким свинцовым грузом, на своей больничной койке. Это было странное состояние. Казалось, под действием снотворного снадобья проносились с необыкновенной отчетливостью лица и встречи отдаленного прошлого. Словно опиум воскрешал перед ним отошедших людей и отзвучавшие слова. Ничто не было забыто. Память, напротив, прояснялась до последней степени в этом больничном одиночестве, сосредоточивалась на ушедших событиях и вычерчивала с поразительной отчетливостью все томившее в прежние годы его мысль.
Но надо всем господствовало одно страшное ощущение: он навсегда потерял себя. Тот, другой, отошедший – Всеволод Гаршин был силен, юн и прекрасен. Он писал короткие и потрясающие рассказы. И вот его нет. Есть больной № 37 в буром халате и туфлях, а иногда и в горячечном камзоле. Больной, у которого нет будущего, у которого отняли навсегда время, который может только вспоминать и отчаиваться.
Неужели же это он – «любимый писатель молодежи», наследник Тургенева, кумир и надежда всей читающей России? Возможно, что это и было, но так давно, словно в какие-то доисторические времена, навсегда отодвинутые от него страшной катастрофой. Память еще хранила бледные очерки этой глубокой древности, смутной и легендарной, как младенчество. Теперь черная пелена окутывала его. Ощутимо и реально было только режущее чувство стыда и страдания, пустоты и безнадежности, подавленности и тупого отчаяния. Там, где-то идет борьба, плещет жизнь, действуют и сражаются смелые люди с решительными жестами. А вокруг него – искаженные, уродливые, измученные и бессмысленные лица. Вопли и хохот, лай и молитва, выспренняя декламация и тихий плач. И буйные драки с грохотом табуреток, стуком мисок, звоном стекол, когда испуганные санитары отступают перед расходившейся оравой восставшей палаты. О, это море голов, несхожих и страшных! Стекленеющие глаза, коварные усмешки, перекошенные губы, тупые полумертвые взгляды. И он, знаменитый писатель, отброшен сюда, в этот самый унылый и ужасающий мир человеческой отверженности и подавленности…