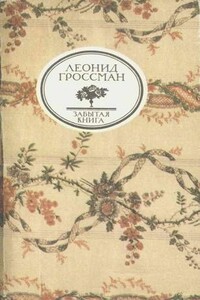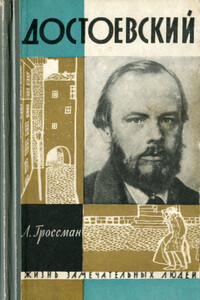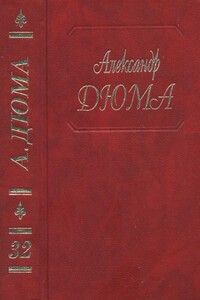Бархатный диктатор | страница 32
И вдруг бурное, яростное дергание всего тела, кидающее повешенного в диких полуоборотах слева направо, назад, вперед, словно мечущее агонизирующего в невообразимых пируэтах какой-то дьявольской пляски смерти. «Крепкая гладкая веревка, узел на самом затылке, – вероятно, разрывы сонных артерий, вывих позвоночника»… И вот сумасшедший круговорот опутанного тела, последние конвульсивные сокращения мертвеющих мускулов – и все внезапно и резко прервано. Жизнь оборвалась под холщовым мешком. Труп наконец неподвижно повис.
– Вздернутый в одиннадцать часов восемь минут, осужденный застыл в одиннадцать двадцать, – спокойно констатировал корреспондент «Фигаро», следя за секундной стрелкой часов.
– Ровно двенадцать минут длилась агония, – заключил молодой англичанин, методически занося золотым карандашиком цифру в карманную книжку.
Сильный ветер покачивал тело.
Но теперь оно болталось, как мешок, грузно и мертвенно, без малейшей внутренней дрожи. Человека не было. Трагедия кончилась. Колебался на весу закутанный труп.
Обрывается пронзительное тремоло барабанов.
Неподвижно, томительно долго, безмолвно и каменно стынут на своих местах судебные власти, гвардия, палач, арестанты. (Согласно распорядку, в течение получаса после повешения все пребывают на своих постах и обряд казни не считается законченным.) Перед десятитысячной толпой меж длинных черных столбов бесконечно долго висит, покачиваясь на ветру, мертвое тело. Носки башмаков ужасающе прямолинейно вытянулись к земле.
И вот раздается наконец приказ прокурора:
– Снять тело с виселицы.
Белую куклу опускают в дощатый гроб. Полицейский врач с кокардой и в больших голубых очках выполняет последнюю формальность: он подтверждает властям, что человек, провисевший сорок минут с петлею на шее, по состоянию его артерий и положению зрачков, действительно умер. Немедленно же прокурор палаты твердой поступью с высоко поднятой головой сходит с площадки и садится в карету. Распорядители казни оставляют площадь. Гроб заколачивается. Одноконная ломовая телега увозит тело казненного на дальнюю окраину.
Медленно растекалась толпа по переулкам, проспектам и улицам. Стучали топоры, сносившие эшафот (к трем часам по приказу площадь должна была принять свой обычный вид). Сутулясь и пошатываясь, брел по Николаевской улице Гаршин. Что-то болезненно надорвалось в нем, мучительно и страшно исказилось. Словно резнули по живому. Все почему-то вокруг теряло смысл и значение, становилось как-то странно пустым, бесцельным и неважным. Люди, коляски, конки? Так, какое-то бессмысленное мелькание чужого, отходящего, далекого и ненужного, звучание и плеск из другого мира. И только эта острая боль, испуг и обида и страшный, огромный, безнадежный вопрос, раскрытый как рана… Слезы подкатывали к ресницам, что-то сжимало горло. Хотелось плакать и чему-то недоуменно смеяться. Ведь бессмыслица всегда смешна! Он шел, бормотал, разводил руками, восклицал и всхлипывал. Неимоверно высокой и режущей нотой стыл в ушах неотвязный визг военных флейтщиков. Брови приподымались с выражением невыносимого страдания. Губы шевелились спазматически, как у плачущего. Мальчишки по пути бежали за ним, передразнивая его жесты и заливаясь хохотом. Прохожие угрюмо оборачивались и сокрушенно покачивали головами.