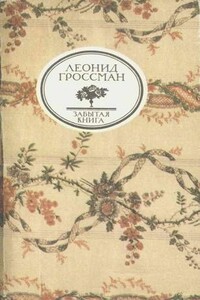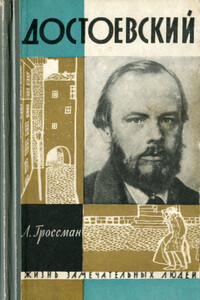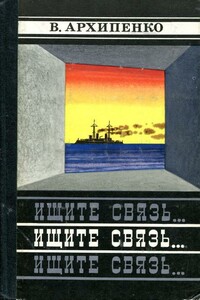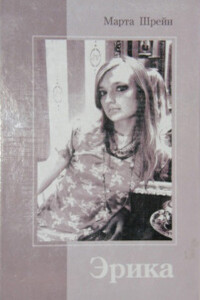Бархатный диктатор | страница 15
Сколько – десять, восемь часов осталось до публичного удушения человека? Неужели же никто не посмеет вступиться за него?
Гаршин решается. Он садится к столу и быстро пишет короткое умоляющее письмо диктатору.
Он сам передаст его по назначению.
Черные улицы зимней столицы. Пустынно и холодно. Далеко до рассвета и тихо, как в склепе. Город вымер, и только не спит где-то там в каземате доживающий свою последнюю ночь…
Прихрамывая и сутулясь, бредет одинокая тень вдоль газовых рожков Вознесенского проспекта по талому снегу и плещущим лужам. Тонут в мглистых завесах беспросветные громады ночных зданий.
Гаршин по-своему любит Петербург с его огромными зеркальными стеклами, отражающими метель и мрак, с завыванием бури над снежной равниной Невы и заунывным перезвоном курантов. Он знал петербургские древности (собирался писать роман о Петре). Ему мерещились подчас согнанные в грязь и ветры Финского побережья бесчисленные работные и мастеровые люди, положившие многотысячной толпой свои кости в основу императорской резиденции. Он знал и другой Петербург – с оградами и львами, с оперенными шляпами и черными плащами, с гигантской аркой Росси и Фальконетовым конем, от которого в ужасе бежал по бесконечным проспектам безумный Евгений, грозивший медному истукану. Это был братский образ, близкий ему через полстолетие. Но больше всего он любил этот сегодняшний, самый подлинный, – его, гаршинский, Петербург с курсистками в маленьких меховых шапочках и студентами в клетчатых пледах, с военными в кепи и проститутками в длинных дипломатах, с художниками в крылатках и лохматыми террористами, – весь этот слагающийся на его глазах текучий, изменчивый, неуловимый город протекающего мглистого и неверного часа Российской империи.
Кутаясь и сжимаясь, до ужаса чувствуя свою затерянность и незащищенность в просторах огромной каменной пустыни, он быстро пересекает площадь. И словно в согласии с его любимым стихом испуганно бьются перед ним «газовых рожков блестящие сердца» и отчаянно мечутся под ударами ветра, сотрясающего стеклянные колпаки площадных канделябров.
Вокруг раскидываются чудовищные нагромождения зданий, где невидимо длится ночная лихорадочная жизнь административного центра государства. Экстренно переписываются срочные отношения, вьются на клубном сукне многозначные цифры предутренних кушей, в резервах полицейских участков полусидя погружаются в дремоту схваченные на ночь беспаспортные, истерически всхлипывают на дальних островах утомленные скрипки ночных оркестров, и где-то в глухом ущелье далекого переулка дописывает сквозь астму и кашель страницу своего «Дневника» впалогрудый и бледный писатель.