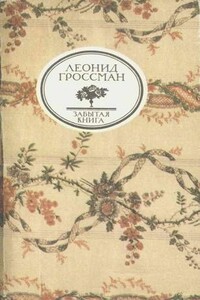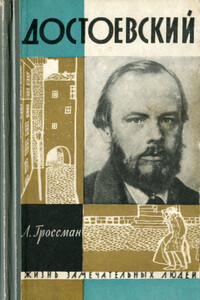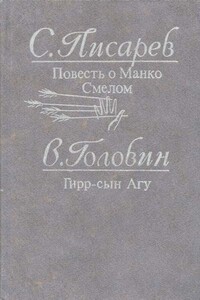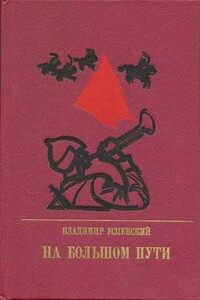Бархатный диктатор | страница 145
– А ведь знаете, – произнесла она нараспев, передвинувшись на подушке и приблизив свою голову почти вплотную к его лицу, – а ведь знаете, я думаю – вы больны. (Она с каким-то даже участием вглядывалась в его глаза.) Здоровые люди еще никогда так не разговаривали со мной. Это, верно, там какая-нибудь болезнь у вас. Вы еще, может быть, с ума сойдете от таких ваших мечтаний при девушке. Вишь, глаза-то у вас какие нехорошие…
И она подозрительно повернула к свету его лоб, почти касаясь грудью его губ. Но тут произошло нечто неожиданное.
Он хотел освободить лицо от этого участливого объятия, но она довольно плотно обхватила своей тоненькой ручкой его голову и неожиданно, по-матерински крепко и ласково, прижала ее к своей обнаженной груди, нежно и молча поглаживая по волосам и даже чуть-чуть покачивая, словно баюкая младенца. Он обомлел от этой внезапной ласки, и что-то мучительно и сладко заныло в нем. Ему уже не хотелось отводить лица от этого материнского лона проститутки. Уже восемь или десять лет – с самого дня смерти матери, ласкавшей его такими же исхудалыми руками, так же нежно прижимавшей его голову подростка к своей совершенно иссохшей чахоточной груди, – он не испытывал такого чувства глубокой ласки, всепоглощающей заботливости, беззаветного желания влить счастье в его существо, каким дышала теперь эта отверженная и презираемая девушка с грубой уличной подмалевкой своих чистых и милых глаз. И он уже прикасался благодарными губами к этой молодой груди, приютившей его воспаленный и словно раненый лоб. Он неожиданно ощутил в себе какой-то отроческий приток сил, неудержимый порыв первоначальных вожделений, еще не загрязненных опытом и привычкой. Волна блаженного самозабвенья прошла по всему его телу и снова опалила его внезапным припадком притаившейся страсти…
…Теперь он лежал совершенно обессиленный, без раздражения и злобы, бесконечно усталый, вполне успокоенный, чувствуя капельки остывающего пота, сбегающие по вискам.
Она сидела на кровати, отбросив одеяло, и глядела на него любящими и ликующими глазами.
– На этот раз ты тоже думал о ней?
Нет, он не думал о ней, и ему уже не нужно было думать о ней. Кто знает, быть может, наслаждение было одинаково в этих крайних полюсах торжествующей влюбленности и продажного блуда. И не могла ли эта промышляющая девица, без отказа раскрытая для всех, создать в своей готовности к ласкам высшее ощущение сердечной полноты, быть может, более глубокое, чем тщеславная красавица, кичащаяся мраморной твердыней своей неприступности? Ведь любовь в нас самих, и не все ли равно, на кого мы излучаем эту жажду сближения, эту тоску по согласному сердцебиению, эту потребность вызвать из глубины взаимного мучительства новую сладость примирения, новый ожог страсти в слезах еще неостывшей обиды? Он чувствовал, что эта девушка с улицы, всеми презираемая и унижаемая, осилила его черную тоску и на мгновенье наполнила его счастьем. Она поистине заслужила право говорить ему «ты» как любовнику. И в ответ ему хотелось как-нибудь выразить ей свою благодарность за это сопричастие к простому человеческому чувству, в котором отказали ему другие, получить от нее прощение за постыдное желание выместить на этой беззащитной свою неудачу в салоне Панаевой.