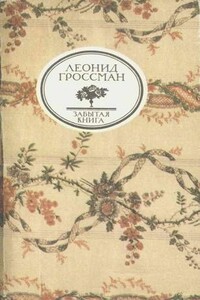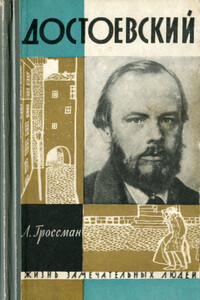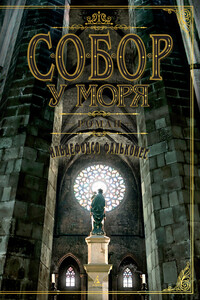Бархатный диктатор | страница 101
Рядом с ним, почти вплотную прикасаясь к его мундиру, рассматривал сквозь тонкие очки полотно Репина бледный человечек с широко оттопыренными ушами и мертвенно застывшим лицом, отороченным короткими седеющими бачками. Ровным выделанным голосом церковного проповедника он делился своими впечатлениями с высокопоставленным зрителем:
– Я с трудом сдерживаю отвращение, ваше высочество. Репин всегда стремился к голому реализму, к обличению и дешевенькому протесту. А эта картина его просто отвратительна… (Президент академии сочувственно кивал головой.) – И к чему тут Иоанн Грозный? Заметьте: только для обличения и посрамления представителя верховной власти. Для снискания аплодисментиков в среде анархистов и нигилистов. (Победоносцев заметно распалялся.) В картине нет ни мысли, ни идеала, ни историзма, – одно жалкое пресмыкательство перед террористами: вот, мол, вам, кесари земные, любуйтесь и действуйте. Не выставлять бы следовало подобные полотна, а сжигать на площади рукою палача.
Гаршин уходил с выставки смущенный и подавленный. Он остро ощущал теперь, что современное искусство не есть целительное средство от безумия. Как жизнь, окружавшая его, оно сочилось кровью, дышало борьбой, звало к мести и гневу. Не Боттичелли и Перуджино, не арфы и цитры, не херувимы и мадонны, – восстание, убийство, право на жизнь и смерть, на власть и господство, великие бунты и казни – все мучительные взрывы мысли, раздиравшие в кровавые клочья политическую современность, волновали великих художников и запечатлевались в их творческих видениях. И не то ли искусство только и обладает высшим правом на существование, которое отмечено этой острой болью эпохи, зияет ранами мимоидущей истории, отвечает полным голосом на встревоженный зов нового поколения, властно пришедшего к жизни и борьбе?
Гаршин знал: он должен пересоздать себя как писателя, неумолимо вырвать из сердца мечтательность и обильною кровью современности вытравить из сознания свою женственную склонность к фантастическим притчам и отвлеченным сказаниям. Когда-то он собирался дать полную волю этому опасному влечению, хотел написать том волшебных и мудрых легенд, чтоб посвятить его своему «учителю Андерсену». Он издавна любил погружаться в эти вымыслы великого ирониста о свинопасе и трубочисте, о гречихе и штопальной игле, о журавлях и диких лебедях, об оловянном солдатике и девочке с серными спичками. Перелистывая книжку в пестрой, как волшебный фонарь, обложке, он сквозь готические очертания образов прозревал родное, близкое, свое: картины прошлого, воспоминания своей личной жизни. Страницы Андерсена словно зазывали из уплывшего времени какие-то незабываемые эпизоды, получавшие новый смысл и раскрывавшие свое затаенное значение от прикосновения к ним великого сказочника. Гаршин узнавал себя в этих игрушечных героях, так глубоко захваченных жестокими драмами жизни. Иногда ему казалось, что сам он мог бы воскликнуть, как фарфоровая пастушка, достигшая с трубочистом края трубы и впервые увидевшая сквозь слезы бесчисленные крыши города и небо со всеми его звездами: «Это слишком много. Этого я не в силах выдержать. Мир слишком велик»! Теперь он знал, что этот пугающий своими размерами и загадками мир он должен принять целиком, чтоб рассмотреть зорким взглядом художника все его язвы и отразить их в своих страницах. От сказок Андерсена – к хронике сегодняшней газеты, к беглым сообщениям подпольных листков, к прокламациям и отчетам политических процессов. Теперь он понимал, что в годину Желябова и Перовской нужно быть их современником и единомышленником, чтобы творить великое в искусстве и оставить такой же бесстрашный след в нем, как эти герои действия, в жизни и политической истории своей страны. Да, нужно быть потомком тех людей, что пережили и Марата, и Шарлоту Корде, и всю великую революцию. Нужно победить в себе эту расслабленность и вялость мечтателя и сказочника, фантаста и духовидца, бессильного и беспомощного петербургского Гамлета. Нужно быть самому способным на такой поступок! И только тогда станешь художником, могучим и действенным, имеющим высшее право на отражение жизни в искусстве и на воссоздание из крови и ран современности великих героических образов ее вождей и творцов. Он знал теперь, что настоящий художник лишь тот, кто жертвует своими замыслами и склонностями во имя повелительных зовов эпохи. Время готовит каждому поэту грозное испытание – только пройдя чрез него и отрекшись от себя, находишь свое высшее «я» в бурях и стонах своей поры. Нужно писать не те книги, которые хочешь, а те, которые требует от тебя проносящаяся история. Только этим поднимешь свое робкое художество на высоту незабываемого и неумирающего. Если же тебе не под силу это великое испытание времени, то и весь талант твой останется вне жизни и безжизненным. Брось свои сказочки, если твоя израненная эпоха, вся в кровавых клочьях, бессильна поднять твои вдохновения… И Гаршин чувствовал, что перед ним вырастала новая, огромная задача, на разрешение которой уйдет вся его жизнь.