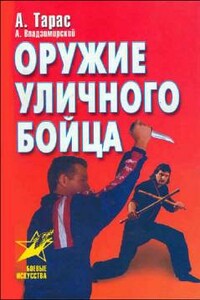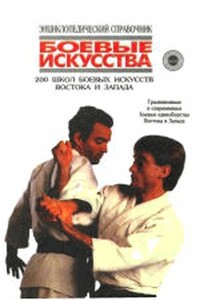1812 год - трагедия Беларуси | страница 133
Французское командование непрерывно требовало от горожан продукты для снабжения лазарета. Осенью, когда стало холодать, 15 деревянных жилых домов французы разобрали на дрова. Вот что писал историк Дмитрий Довгялло о состоянии дома присутственных мест и общем ущербе городу после ухода французов:
«Казенный дом присутственных мест по нахождению в нем неприятельского лазарета вовсе опустошен, яко то: двери и окошки, и печи разбиты, разломаны и совсем разорены також подлога (пол) в некоторых местах вытерта и сожжена. Сама же штукатурка осыпалась… Убытки города составили 405 989 рублей 58 копеек»[76].
В особенно тяжёлом положении находилось сельское хозяйство. Разруха охватила и крупные помещичьи хозяйства, и хозяйства мелкой шляхты, и крестьянские дворы. В декабре 1812, январе - июне 1813 года многие десятки помещиков практически всех уездов Минской губернии обращались в различные инстанции — к гражданскому губернатору П. М. Добринскому, в присутствие для военных повинностей, казённую палату, с просьбами ослабить бремя продовольственных поставок (54). Так, борисовский помещик, владелец имения Белавичи Антоний Беликович, писал:
«Крестьяне разорены и оных значительное число поумирало и побито в деревне. В прах обращены хлеба, в зерне и на поле вовсе неприятелем истреблено… Имение… не может дать никакого дохода поелику во дворе и во всех крестьян не осталось ни лошади, ни коровы, ни свиней, ни самомалейшей птицы… Доселе употребляя остаток состояния своего оных крестьян кормлю» (55).
Владелец имения Запорожье Минского повета Карл Бразовский просил губернатора освободить своих крестьян от податей:
«Проходившие на Вильну 27 ноября (1812 г. — Авт.) войска забрали весь хлеб. Крестьяне не только повинности не могут нести, но и прокормить себя не в состоянии» (56).
Бедствовали помещики и крестьяне и в других беларуских губерниях. Вот в качестве примера несколько цифр о материальном ущербе, причиненном в 1812 году Вилейскому уезду (повету) Минской губернии: сгорели 444 крестьянские хаты, 431 гумно с зерном, 302 конюшни, 255 скотных дворов[77]. И это в уезде, где ни летом, ни осенью не было крупных боевых столкновений.
В 1813 году хлеборобы беларуских губерний с огромным трудом засеяли лишь половину довоенных пахотных земель. От повального голода крестьян спасла только картошка. Именно в послевоенные годы она из огородной превратилась в полевую культуру и стала для беларуской деревни настоящим «вторым хлебом».