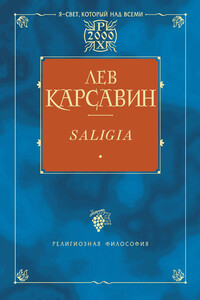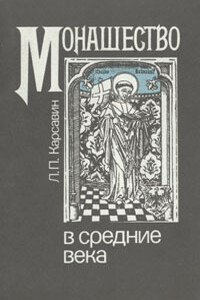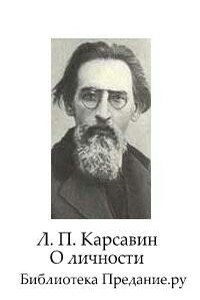Сочинения | страница 19
Свободнее чем у Иоакима, мистическое умозрение сочеталось с философским мышлением у Амальриха Венского, парижского профессора, находившегося под влийнием новоплатонизма и, может быть, сочинений самого Эригены. Бог — все, учили Амальрих и его последователи, и все — Бог. Как свет невидим сам по себе, так и Бог видим только в Его творениях. Но Бог — бесконечное и неподвижное бытие, а творения — нечто случайное, акциденция. Бог — их форма, понимаемая как нечто реальное. Он — разум, сам себя осуществляющий во времени; из Него все истекает, эмануирует. Но Бог, вместе с тем, называется пределом всего, «потому что все вернется в Него и неизменно успокоится в Нем, и все тогда пребудет, как единый неизменный индивидуум». В мистическом акте человеческий дух проникает любовью к Богу и, лишаясь самосознания, из твари становится Богом. Тогда Бог — душа познает себя — Бога. Бога называют отцом — как Отец воплотился Он в Аврааме; Сыном — как сын он воплотился в Деве Марии; Духом Святым — как Дух ежедневно воплощается Он в нас. Таким образом каждый из нас становится Христом, и можно сказать, что все мы — «члены тела Христова». Но если это так, то нельзя выделять альмарихан, как истинных богочеловеков: пантеистический характер их мистики должен приводить к обожествлению всего человеческого рода. Однако этого вывода из своего учения они не делают, только приближаясь к целостному религиозному построению мира. У альмарихан не преодолено и еще одно противоречие: они сохраняют, хотя и в ослабленном виде, исконный дуализм материи и духа. Его только пытается побороть опирающийся на Аристотеля и его комментатора Александра Афродизийского Давид Динанский. Давид подставляет на место «формы» Альмариха «первую материю», отожествляемую им с разумом (nous) и Богом. Судьбы учения Давида нам неизвестны.
Раз человек обожествляется, раз он — часть тела Христова, он — безгрешен и свят. Это можно понять двояко. Или обожествленный человек неспособен грешить, т. е. по самому существу своему может совершать только добрые и святые дела, «потому что не может быть греха в высших способностях души»; или же, что, собственно, и вытекает из пантеистического уклона амальрихан, что бы не совершал человек, его действия и мысли не могут быть рассматриваемы под углом зрения относительной, человеческой морали: «Бог только благ, а не справедлив». И может быть иначе, если Бог во всем, даже в злом человеке? С этой точки зрения особенна ясна непоследовательность утверждения альмарихан, что только они — святые, только они — члены тела Христова, что только они не грешат, ибо не они, «а Бог отныне является виновником их действий». Непоследовательна и вера альмарихан в постепенное раскрытие в человечестве Бога, «глаголевшего и в Августине, и в Овидии». Однако, все эти непоследовательности, до известной степени разрешенные ортлибариями и братьями свободного духа, легко объяснимы на почве значения для амальрикан акта мистического познания и помимо их воли влияющей на них идей церкви и христианской догмы. Не желая и не будучи в состоянии совершенно отбросить традицию, они, как и Иоаким, пытаются понять ее эсотерически. Легче они порывают с культом. Мистикам сравнительно легче считать «курения фимиама в церкви и призывы святых идолопоклонством». Не нужна им и евхаристия; «тело Господне так же находиться в гостии, как и во всяком другом хлебе».