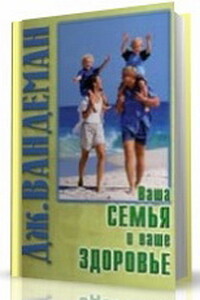Богословские труды | страница 25
Стоит отметить и то, что вроде бы в статье Кривошеина о Паламе остается за кадром, — интенсивность научной работы: примечания, собственно научный аппарат, занимают более трети объема статьи. Всего 219 ссылок. В основном тексте мы видим лишь дневную поверхность, материк основания оказывается погребен под многометровым культурным слоем. Приведенная здесь терминология археологической науки — не просто привычная автору образность. Археологичность патристических исследований оказывается основой правильного восприятия Предания. Археология не есть знание о мертвой или материальной культуре, это наука о связях явлений прошлого между собой и отношении этих явлений и связей к настоящему. Культурная стратиграфия, снятие пластов мысли позволяет увидеть то, что было у всех, везде и всегда. Именно так и определяется содержание Предания. В этом смысле наследие отцов и есть «обновляющийся залог», depositum juvenescens, обладающий уникальной способностью открываться творческому «умному» началу , будь оно научным или художественным. В основе же всего лежит кропотливая работа по снятию культурных пластов и слоев и бережная расчистка погруженных в них предметов, ценность которых в их подлинности и аутентичности, а не в возможности их использования для создания богословского «новодела», или, по–модному, симулякра.
О богословской археологии говорил еще отец Георгий Флоровский, пытаясь понять истоки, намерения и метод святоотеческой письменности, чтобы на этой основе создать современную систему церковного слова. Творческий образ, а не мертвую копию предлагается создать на основе возрождения патристического стиля, несводимого к реставрации или имитации: «Предание живет и оживает в творчестве»[50].
Неопатристическое возрождение и религиозно–философский ренессанс с их археологическими сознанием и основанием (недаром археология в России на рубеже XIX—XX веков была одной из наиболее динамично развивавшихся наук, а последним председателем Императорской Археологической комиссии был А. А. Бобринской) в эмиграции оказались вдохновлены еще одной новой, отчасти внешней по отношению к Церкви задачей. Нужно было продемонстрировать Европе, что Православие не архаическая форма христианской культуры, а само содержание Евангелия. И здесь, не сговариваясь, лучшие богословские умы России в рассеянии обратились к византийскому богословию XIV в. с его ключевыми явлениями: паламизмом и исихазмом. Обычно называют три имени на этом поприще: Василий (Кривошеин) (1935), Владимир Лосский (1944) и Иоанн Мейендорф (1959). Но по–настоящему к проблемам обожения, Фаворского света, мистике сердца повернулись лицом в 1930—1940–е гг. не только они, но и многие другие: Борис Вышеславцев (сердце как средоточие христианской мистической жизни) , архимандрит Киприан (Керн) (антропология свт. Григория Паламы), отец Георгий Флоровский (тайна Фаворского света), Мирра Лот–Бородина (обожение и мистика таинств христианского Востока, к изучению которых она перешла от изучения рыцарской поэзии)